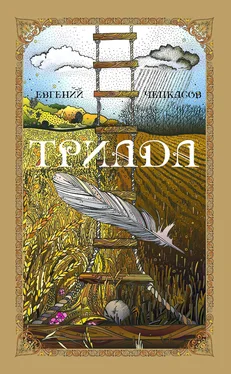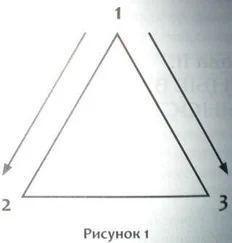Нет, не самое. На этом листе обязательно было бы написано главное, о котором я чуть не забыл. Гена, поезжай в Дивеево вместо меня. Вот что там было бы написано. В ближайшие выходные наш курс едет в Дивеево от профсоюза. Я тоже записался, а теперь место вакантно. Позвони Мише, узнай подробней и съезди, а я пока полежу и подумаю. Еще раз спасибо. За всё. Пока.
Степа.
Ясным холодным утром, в первую субботу ноября, на старом щербатом асфальте стояло полсотни студентов, ожидающих автобус. Почти то же самое было здесь и три месяца назад, когда отъезжали в «Комету», а холодрыга тогда стояла чуть ли не осенняя – помнишь, Гена?
– Помню. Только девчонки тогда по-другому были одеты.
– Точно, – с улыбкой подтвердил Миша. – А правда, что в монастырь без юбок не пускают?
– Тебя пустят, – пошутил Гена, – а для женщин там есть юбки и платки напрокат, но лучше уж со своими.
– Понятно. А ты откуда знаешь?
– Про что?
– Про юбки напрокат.
– Не помню, кто-то рассказывал.
– А помнишь, как я тебе чуть леску не порвал?
– Какую леску?
– Я выходил из автобуса и зацепился ногой за леску твоей удочки.
– Точно, это уже в «Комете» было. Помню.
Они улыбчиво помолчали.
Миша очень хотел говорить с Геной и вместе с тем чувствовал что-то вроде робости, какое-то неожиданное глупое стеснение. Чувство это было хорошее, приятное и немного забавное. «Сказать бы ему сейчас, как дети в детском саду говорят: «давай с тобой дружить» или даже «дружиться»… – думал он с улыбкой. – А еще они говорят: «Мирись-мирись и больше не дерись» и сцепляются мизинчиками. А Он говорил: «Будьте как дети». Ладно…» К чему это «ладно», Миша и сам не знал, но повторил его вслух, будто пробуя на вкус, и опять улыбнулся: и солнечное небо, и подъезжающий автобус, и улыбающийся Гена – всё было ладно.
В автобусе сидели вместе; путь был неблизок; Миша по привычке наблюдал за Геной, словно тот до сих пор являлся прототипом, хотя какой уж там прототип, да и рассказ дописан. Солев досадовал на себя за эту наблюдательскую позицию, она мешала ему, и он пытался изжить ее всеми силами. Но не очень-то получалось, ведь Гена Валерьев представлял собой идеальный объект для наблюдения, поскольку наблюдению не препятствовал. На вопросы, обращенные к нему, Гена старательно отвечал, в остальное же время молча смотрел в окно или слушал песни, певшиеся всем автобусом, а когда знал слова – подпевал. Голос у него был неплохой, лучше Мишиного, и еще Миша удивился, что Гена знает песни Цоя и Шевчука.
Приехали как раз к монастырской трапезе – достаточно сытному постному обеду. Помимо университетской экскурсии, трапезничали еще несколько человек, и они молились перед едой и после, и Гена подпевал им, и это казалось Мише естественным, а вот собственное молчание и молчание остальных студентов переживалось как нечто неуместное и даже постыдное. Проанализировав свои чувства, Солев немало удивился.
Монастырь был большой и красивый, с двумя равновеликими пятикупольными храмами, колокольней и еще какими-то постройками. На территории монастыря толклось много пришлого люда – паломники и туристы. Дама в голубом берете, держа над головой малоформатный российский триколор (зачем это? – а, чтобы не потерялись), вела группу на штурм храма. Некоторые из ведомых приостанавливались, беря на прицел фотоаппарата тот или иной эстетически важный объект, жали на спуск и спешили догнать свою знаменосицу.
– А что, во все монастыри посторонних пускают? – спросил Миша у Гены.
– Во все, – ответил тот, – только посторонние не во все едут… Да-а, трудно здесь, наверное, спасаться…
Студенческая группа собралась в полном составе, и экскурсовод начала рассказ о Серафиме Саровском и его обители. Рассказ очень заинтересовал Мишу: раньше он знал только, что есть такой святой, современник Пушкина, очень почитаемый, и видел его икону. Теперь он узнал гораздо больше и потому шел к мощам в некотором волнении. Волнение это объяснялось еще и тем, что он никогда раньше не прикладывался к каким бы то ни было мощам и не знал, как они выглядят – то ли это скелет, то ли мумия, то ли в гробу закрытом, то ли в открытом, то ли как в «Сказке о мертвой царевне»…
Когда Мише было восемь лет, он поцеловал в лоб мертвого отца – это было незабываемо страшное ощущение. Сразу же после похорон он стал задумываться о том, что происходит в земле с теми, кого туда зарыли, стал расспрашивать, и на почве таких размышлений и расспросов у него случались истерики. А кладбище до сих пор вызывало у Миши пульсирующую пугливо-гадливую нелюбовь. Это было третьей причиной волнения, с которым он шел к мощам Серафима Саровского.
Читать дальше