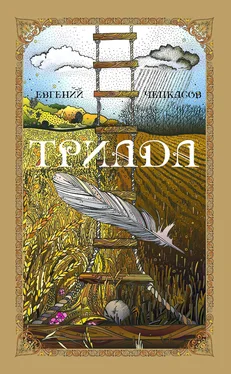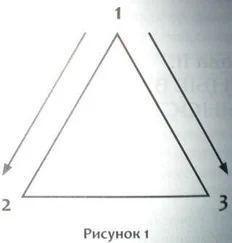– Нормально. Привет тебе передавала.
– И ей тоже передай. Не дергали вас из-за меня?
– Один раз вызывали. Мы сказали, что ничего не знаем, вот и всё.
– Мы же в разводе – чего они лезут? Суки!
– Да ничего страшного, не переживай. Поговорили минут десять и отпустили. Тебе, кстати, привет от Наташи.
– Видел ее? – спросил Владимир смущенно.
– Да.
– Она святая.
– Тебе виднее, – сказал Гена, иронично улыбнувшись, но сразу же поправился: – Извини, па! Я, правда, рад за тебя.
– Вырос, – пробормотал отец. – Только из лифта всё равно не выходи, ты очень высоко можешь подняться.
Гена вспомнил метафору отца о детстве – лифте в небоскребе вроде нью-йоркских башен и недавние события, после чего ответил:
– А если самолеты прилетят? Ты в курсе, что с верхних этажей никто не спасся?
– Спасение – штука условная.
– Точнее, земное благополучие – штука условная, а спасение – величина абсолютная. С такой поправкой – вполне христианская мысль.
– А по-моему, и то условно, и другое условно. Но оказаться на верхних этажах – важнее, чем спастись.
– Важнее, чем остаться в живых, – упрямо поправил Гена. – А спасение возможно на любом этаже.
– Ты поумнел, – констатировал Владимир. – Но я думаю иначе. Ты мысль о спасении связываешь только с христианством. Ты понял, что дом наш многоконфессионален и что, по моим меркам, на верхних этажах окажутся не только христиане, а на нижних – не только буддисты…
– А в самолетах прилетят не только мусульмане, – добавил юноша, тонко улыбнувшись.
– Вот именно.
– Я тебя понял. Ты рассуждаешь как эстет: главное, чтобы было высоко, умно и красиво. Это и есть верхние этажи.
– В принципе, да. Умный и нравственный буддист милее сердцу моему, чем глупый безнравственный христианин. И, наоборот, умный и нравственный христианин милее мне, чем глупый и безнравственный буддист.
– А если сопоставить умного безнравственного и глупого нравственного – кто милее?
– Умный безнравственный, – ответил Владимир, подумав, и улыбнулся. – Ты прав, я эстет. Как у Уайльда: «Эстетика выше этики». Высшая категория – красота. Ну а ты по какому критерию будешь селекцию проводить?
– По истинности. Христианство, а точнее, Православие – эталон. Чем дальше от него, тем дальше от спасения. Я в душе тоже эстет и потому буддиста Пелевина я читаю, а некоторых православных бездарей – нет. Но я понимаю, что шансов на спасение у этих православных бездарей больше, чем у Пелевина.
– Ты очень поумнел. Или говорить, что ли, начал, а раньше всё молчал… Но я с тобой всё равно не согласен, ведь есть и другой аспект…
Но о другом аспекте Гена так ничего и не узнал, поскольку их прервали. Прервали не только Гену и Владимира, но и всех остальных: свидание окончилось.
– Пока! – закричал сын, прикладывая ладонь к стеклу. – Я тебе напишу! Тут бабочка в паутине, я забыл сказать!
– Здесь почти все граффити сентиментальные! – тоже громко отвечал отец, отнимая ладонь от стекла. – Маме привет передавай!
– Передам! – кричал Гена. – Но это не граффити, это настоящая бабочка!
Однако Володя Красно Солнышко уже не слышал: он положил трубку и поднялся с табурета, так что голова исчезла из окошка, а через мгновение исчезло и туловище – заключенного Валерьева увели.
Получив обратно паспорт и сумку, Гена вместе с остальными семью вышел из-за железной двери в обрыдлую комнату-коридор. На них с недоумением, досадой и завистью посмотрела четвертая партия: что, мол, так долго? На крылечке многие из вышедших закурили и стали обмениваться телефонами. «Похоже, в Москве у всех сотовые», – удивленно подумал юноша, неторопливо пересекая предтюремный двор. Спешить было некуда: времени до поезда полно.
В первом же магазинчике Гена призадумался, разглядывая слабоалкогольную продукцию, и выбрал пол-литровую банку джин-тоника. Раньше он этого напитка не пробовал, но тоник ему нравился, а градусы он расценил как оптимальные. Вкус у джин-тоника оказался горьковато-фармацевтическим с металлическим оттенком. «Нет, это не железо – это алюминий, – размышлял Валерьев. – У банки вкус, наверное, такой же…»
Возле своего вагона Гена встретился с Рудаковым, сообщил ему то, что счел нужным, и передал привет. Юноша чувствовал, что лифт остановился и выжидающе раскрыл двери. «Как в троллейбусе, – мутно подумал он. – Хотя при чем тут троллейбус, хватит и лифта… Кому надо, тот пусть и выходит. Мне выше».
* * *
Субботним утром Гена Валерьев вернулся в родной город. Поезд пришел около шести, было свежо, солнце только-только всходило, в троллейбусе, кроме Гены, ехали двое – кондуктор и водитель. Заспанная Тамара Ивановна в ночной рубашке открыла дверь и отправилась досыпать, но не уснула, оделась и принялась за расспросы. Сын старался отвечать подробно, но получилось коротко. «Не говорить же ей про лифт и бабочку в паутине! – мысленно рассуждал он, припоминая упущенное в рассказе. – Она не поймет, да и не для нее этот разговор был».
Читать дальше