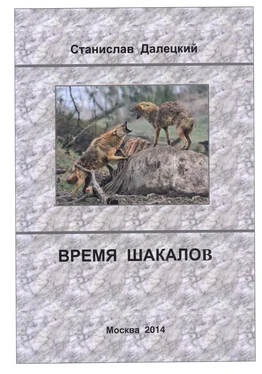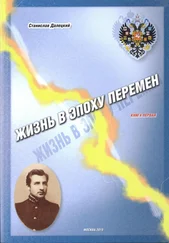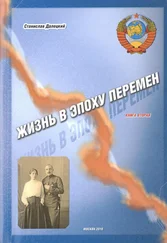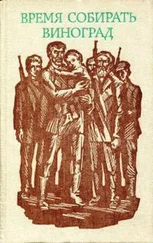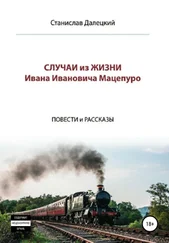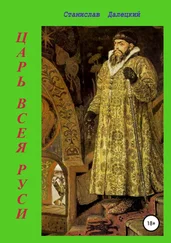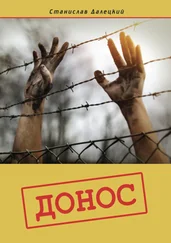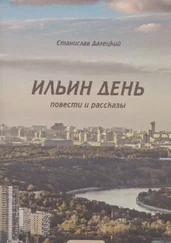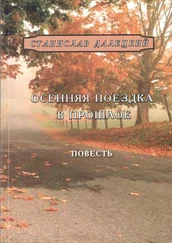Михаил обещал подумать, навестил Сану и рассказал ей о беседе с отцом и его предложениях. Он спросил Сану, откуда её отец знает об их отношениях, но Сана не растерялась и ответила, что об их отношениях Семену Ильичу рассказали соседки по подъезду, которые много раз видели Михаила и Сану вместе. Мол, отец и её спрашивал об отношениях с Михаилом и ей пришлось рассказать всё честно и замуж она согласна.
Михаил примерялся и так, и эдак, и получалось, что иного выхода у него нет, как жениться на Сане. Это своё предложение он и сказал Сане, та согласилась, известила отца и вскоре они зарегистрировали брак, отметили его в семейном кругу – даже мать Михаила не пригласили и Михаил переехал на жительство к Сане, покинув общежитие навсегда.
За этими делами закончился первый год обучения Михаила в аспирантуре и его тесть и научный руководитель Семен Ильич предложил ему перейти на работу в НИИ, где научной деятельностью заниматься более подручно, а в аспирантуре продолжать учиться заочно. Михаил вынужденно согласился, потому что уже полностью зависел от Семена Ильича и его дочери.
X
Семен Ильич Фалис – тесть Михаила, работал начальником отдела в НИИ агрохимии, одновременно и по совместительству подрабатывая доцентом в сельхозинституте, как кандидат наук.
Вообще-то такое совместительство разрешалось только докторам наук, но для своих людей всегда делаются исключения, а у Сифа, как звала Семена Ильича его жена Ада, свои люди имелись везде и всюду. В этот НИИАХ Сифа и устроил своего зятя Михаила младшим научным сотрудником лаборатории гранулированных удобрений к своему приятелю Арнольду Вагиновичу Рею – начальнику этой лаборатории и тоже кандидату наук. Чем ему предстояло заниматься на новой работе, Михаил представлял достаточно смутно, но по уверениям Сифа, работа предстояла не обременительная и с перспективой самостоятельной научной деятельности в будущем.
Так оно и оказалось: в смысле необременительности – никто к нему потом не приставал с заданиями и поручениями, каждый занимался своим каким-то делом, стараясь не привлекать к этому делу других, что создавало впечатление самостоятельности работы и незаменимости каждого сотрудника лаборатории.
В лаборатории было два научных сектора – так положено в любом НИИ: сектор из нескольких сотрудников, потом отдел или лаборатория из двух – трёх секторов, а затем отделение или направление. Такое устройство НИИ было придумано в СССР, чтобы творческим людям предоставлялась научная самостоятельность и возможность карьерного роста с повышением зарплаты: уже начальник или завсектором имел полную самостоятельность в работе и существенную прибавку в зарплате по сравнению с рядовыми сотрудниками, особенно при наличии ученой степени.
Советская власть, по предложению Сталина, ввела в 50-е годы существенные надбавки к зарплате сотрудникам НИИ, ВУЗов и даже на заводах и фабриках, имеющим ученые степени.
Когда Михаил перешел работать в НИИ, его оклад младшего научного сотрудника был 130 рублей в месяц, но если бы он имел ученую степень кандидата наук – неважно каких, его оклад составил бы 180 рублей; а при наличии 10-ти лет научного стажа работы – и все 250 рублей: то есть почти в два раза больше нынешней его зарплаты.
Соответственно, зарплата докторов наук – профессоров, была ещё в два раза выше и работники науки и профессура ВУЗов были одними из самых высокооплачиваемых категорий работников: больше зарабатывали только шахтеры, металлурги, да ещё, пожалуй, летчики, но у них был тяжелый и опасный труд, а в науке можно было просуществовать всю жизнь, не создав ничего полезного для страны – просто защитив диссертацию и пристроившись в НИИ или ВУЗе или и там и там, одновременно, как сделал Сифа. Именно поэтому, в НИИ и ВУЗах было много лиц ученой национальности – так называли сотрудников – бездельников с учеными степенями: здесь можно было не зарабатывать, а получать, и весьма неплохо.
Шел 1981-ый год и коммунизм в науке для лиц с учеными степенями и званиями уже наступил, как и обещал двадцать лет назад Никита Хрущев: он же не говорил, что коммунизм наступит для всех и навсегда.
Потом, после переворота 1991-го года, очередной коммунизм в России наступил уже для воров, проходимцев и спекулянтов всех мастей, а работники науки стали нищими – как говорится в сельском хозяйстве: каждому овощу своё время.
До смены приоритетов было ещё более 10-ти лет, и работа в НИИ оставалась престижной, а при указанных условиях и хорошо оплачиваемой.
Читать дальше