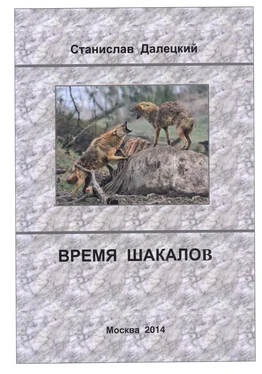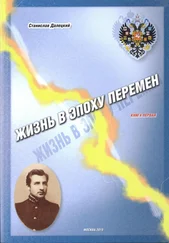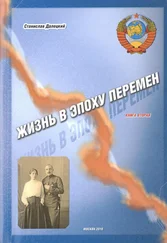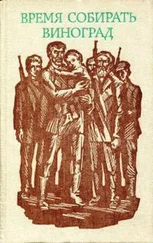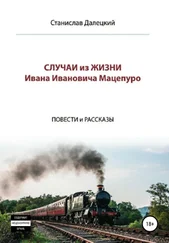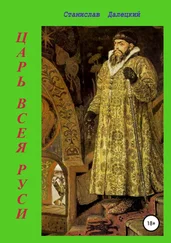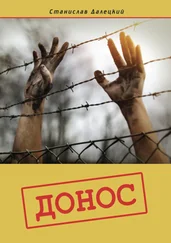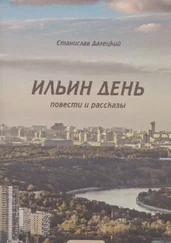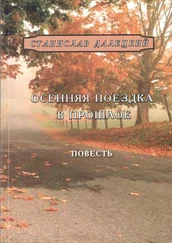За модой тогда особенно не гонялись и потому ребята одевались просто, дешево и практично: зимой полупальто, кирзовые сапоги и шапка или фуражка – благо, что зима в тех местах без сильных морозов, а летом – брюки, рубашка и сандалии или кеды: прототип нынешних кроссовок, но попроще – х/б материя и резина.
Друг Юрка мог бы получать пособие от школы, как из малообеспеченной семьи: бесплатно одежду и учебники, но он стеснялся своей бедности и был как все. Не стесняясь, впрочем, отнимать, иногда, у более слабых ребят их карманные деньги, зная, что родителям они никогда не пожалуются: это была бы ябеда, а ябед тогда не любили и презирали.
Потому и Миша перестал ябедничать учителям, а дома он этого никогда не делал, даже когда ходил в детсад. Однажды он начал рассказывать отцу, что один мальчик в их группе ругается и плюётся, так отец шлепнул его ладонью по губам и сказал что выпорет, если ещё услышит, как его сын ябедничает.
Четвертый класс Миша закончил без троек: вообще-то одна тройка по арифметике должна быть, но ему, как звеньевому пионерского отряда, учитель дал легкое контрольное задание и потом поставил четверку за четверть и за год. Так Миша ещё раз понял, что быть на виду и помогать взрослым – это хорошо и выгодно.
Лето шло быстро и незаметно. В пионерский лагерь он не поехал: не захотел, и родители не возражали, хотя и опасались его приятеля Юрки: как бы он дурно не повлиял на Мишу. Но в тот год, в СССР, впервые ввели минимальную заработную плату в 60-т рублей, с которой не брали налоги и ввели пенсии для колхозников, чего раньше не было. Юркина мать тоже получила прибавку к зарплате, плюс 5-ть рублей, как матери одиночке и потому Юрка стал жить намного лучше, успокоился и перестал хулиганить.
Это успокоило и родителей Миши, которые перестали возражать против его встреч с Юркой. К тому же, Миша придумал сказать родителям, что он, как пионерский звеньевой, взял шефство над другом, чтобы он учился и вёл себя лучше. На том все и успокоились.
Ребята бегали на пруд купаться, мастерили во дворе луки со стрелами и рогатки для охоты на птичек и бегали за околицу в рощу играть в войну и стрелять птиц из рогатки. Миша с Юркой тоже делали вылазки в городской сквер у кинотеатра, где охотились на воробьёв и собирали пустые бутылки.
Взрослые после работы присаживались компанией на скамейки в сквере, выпивали немного водки и пива, а пустые бутылки оставляли – вот с утра эти пустые бутылки и становились добычей мальчишек. Собранные бутылки они несли в приемный пункт стеклотары, где приемщик проверял горлышки бутылок на отсутствие сколов и расплачивался по 12 копеек за каждую бутылку. Этих денег ребятам вполне хватало на посещение кино и мороженое, а больше им ничего и не было нужно: одеты, обуты и накормлены они были так же, как и их сверстники.
Главным были не сами деньги, а то, что они как бы заработаны и не выпрошены у родителей. У Юрки была мечта купить велосипед, чтобы гонять по поселку, как и Миша, но велосипед стоил 40 рублей, которые на бутылках не соберёшь, а потому друзья ездили вдвоём на Мишином велосипеде, крутя педали по-переменке.
В те, шестидесятые годы, говорить и мечтать о деньгах, как средстве хорошей жизни, было не принято ни среди взрослых, ни среди детей. Зарплата, хотя и была разная, но отличалась не сильно: так, отец Миши, работая шофером, получал больше двухсот рублей. Юрина мать, работая уборщицей, получала 70 рублей, но зависти или злобы по отношению к родителям Миши у неё не было – так сложилась её жизнь после войны, в которой она потеряла обоих родителей. Люди рабочих профессий зарабатывали больше, чем местная интеллигенция: врачи и учителя, но не намного.
При желании, всегда можно было подработать: Юрина мать работала по совместительству на полставки уборщицы в сберкассе и в итоге зарабатывала почти как начинающий учитель. Рабочему токарю или слесарю достаточно было начать работать с огоньком без долгих перекуров, как его заработок возрастал в полтора – два раза.
Но и учитель, и врач тоже могли работать на полторы ставки, только многие не хотели: зачем пропадать целыми днями на работе, если зарплаты вполне хватает на приличную, по тем понятиям жизнь: одеваться; есть-пить; покупать кое-какую мебель и товары; ездить в отпуск раз в год на курорты или в пансионаты по профсоюзным путевкам, почти бесплатно – только проезд платный.
Например, проезд по ж/д от поселка до Москвы стоил 11 рублей в плацкартном вагоне. Все остальные потребности людей: медицина, учеба и обеспечение жильем были бесплатными для всех, но жилья надо было ждать в очереди – после войны прошло только двадцать лет, и в полуразрушенной стране ощущалась острая нехватка жилья в виде отдельных квартир, однако на улице никто не жил.
Читать дальше