
Нападение полиции на мирных протестующих, Сиэтл, 1999 г.
Даже когда правительство внезапно приостанавливает карательные действия, направленные на уничтожение, страдать с достоинством просто надоедает, и пацифисты, не целиком посвятившие своё будущее революции и войне со статусом-кво, теряют ясность убеждений и выбывают (может быть, они сделали что-то, чтобы «заслужить» или «спровоцировать» репрессии?). Посмотрите на акции протеста 1999 г. в Сиэтле и последующую массовую мобилизацию антиглобалистского движения: с активистами в Сиэтле обращались жестоко, но они с честью встретили это, дрались в ответ, и многим этот опыт придал сил. То же самое относится к демонстрациям в Квебеке против «Зоны свободной торговли Америк» (FTAA). С другой стороны, полицейские репрессии на протестах 2003 г. — против FTAA в Майями были совершенно незаслуженными даже по легалистическим критериям.118 Одностороннее насилие не придало ни сил, ни достоинства протестующим — они подверглись после задержания жестокому насилию, и многих это отвратило от дальнейшего участия, включая активисток, подвергавшихся сексуальному насилию со стороны полицейских. В ещё более пассивных протестах в Вашингтоне — например, на ежегодных демонстрациях против Мирового банка — ненасильственное сопротивление, состоящее из периодических срежиссированных задержаний, арестов, заключений под стражу и освобождений, не столько вдохновляло, сколько утомляло, и в итоге численность протестующих явно сокращается. Этим протестам, безусловно, не удалось привлечь внимание прессы или повлиять на людей своим спектаклем «страданий с достоинством», но сами пацифисты-организаторы в каждом случае объявляли критерием успеха численность участников, отсутствие столкновений с властями и насилия в отношении собственности.

Вооружённые полицейские разгоняют демонстрацию, Сиэтл, 1999 г.
В конечном счёте, используя ненасилие, государство может победить даже революционное движение, которое в противном случае могло бы стать достаточной силой для достижения успеха. В Албании в 1997 г. из-за коррупции правительства и развала экономики многие семьи потеряли все свои сбережения. В ответ «Социалистическая партия созвала в столице демонстрацию в надежде стать лидером мирного протестного движения».119 Но сопротивление зашло настолько далеко, что его не могла контролировать никакая политическая партия. Люди начали вооружаться, жечь и взрывать банки, полицейские участки, правительственные здания, офисы спецслужб, освобождать заключённых из тюрем. «Значительная часть военных дезертировала, или присоединившись к восставшим, или бежав в Грецию». Албанцы стояли на грани свержения системы, угнетавшей их, что дало бы им шанс создать для себя новые социальные институты. «К середине марта правительство, включая спецслужбы, было вынуждено покинуть столицу». Вскоре несколько тысяч солдат Евросоюза оккупировали Албанию, чтобы восстановить центральную власть. Оппозиционные партии, которые всё это время торговались с правительством, вырабатывая список условий, на которых восставшие согласятся разоружиться, и уговаривая правящую партию отдать власть (чтобы они могли её взять), сыграли ключевую роль в том, чтобы оккупационным силам удалось усмирить восставших, провести выборы и восстановить государство.

Протестующие разбирают брусчатку, Влёра, Албания, 1997 г.
Франц Фанон описывает подобную ситуацию, когда оппозиционные партии в колониях осуждали насильственное восстание, стремясь контролировать движение. «После первых столкновений официальные лидеры быстро ликвидируют насильственную деятельность, которую они „называют детской“». Затем «революционные элементы, прибегающие к ней, быстро оказываются в изоляции. Официальные лидеры, облачённые в свой многолетний опыт, беспощадно открещиваются от этих „авантюристов и анархистов“». Как объясняет Фанон на примере Алжира и антиколониальной борьбы в целом: «Механизм партии сам по себе противостоит любым новшествам», а лидеры «испуганы и встревожены мыслью, что их может смести вихрь, природу, силу и направление которого они даже не могут представить».120 Хотя эти оппозиционные политические лидеры в Албании, Алжире и т. д. обычно не определяют себя как пацифисты, интересно отметить, что они играют схожую роль. Истинные пацифисты более склонны принять обманчивую оливковую ветвь от умиротворяющих политиков, чем предложение солидарности от вооружённых революционеров. Стандартный альянс и братание между пацифистами и прогрессивными политическими лидерами (советующими умеренность) служит расколу революционного движения и более лёгкому контролю над ним. Лишь в отсутствии значительного проникновения пацифистов в народные движения у политических лидеров не получается захватить над ними контроль: в итоге их отвергают и отторгают как элитистских кровопийц. Народные движения оказываются беспомощными именно тогда, когда они терпимы к ненасилию.
Читать дальше





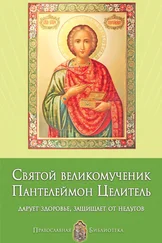

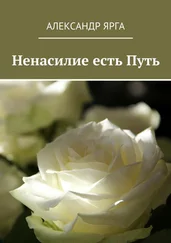
![Журнал «Государство, религия, церковь в - Государство, религия, церковь в России и за рубежом №3 [35], 2017](/books/416153/zhurnal-gosudarstvo-religiya-cerkov-v-gosudarstv-thumb.webp)
![Журнал «Государство, религия, церковь в России и - Государство, религия, церковь в России и за рубежом №3 [35], 2017](/books/438868/zhurnal-gosudarstvo-religiya-cerkov-v-rossii-i-g-thumb.webp)