— Возьмете ли вы на себя — а я хотел бы, чтобы взяли,— сказать, что случившееся между немцами и евреями в этом столетии — это все-таки результат того, что можно назвать, не формулируя специально, столкновением немецкого духа и иудаизма? Повторяю: описывая максимально общо. Что дело не именно в том, что пришел Гитлер, а пришел бы не Гитлер, было бы по-другому, а в том, что это нарастало независимо от конкретных исполнителей и последовательности действий.
— Все хорошо, что вы говорите,— теперь я вам скажу. Был в Германии такой знаменитый профессор философии, о котором теперь никто не говорит,— Пастернак ездил на его лекции…
— Коген.
— …Cohen. Только в России он был известен и в Германии, теперь никто не знает, кто это был, мало людей. В Марбурге. Он написал книгу, в которой он говорит, что немецкий дух и еврейский дух имеют что-то общее. Тут есть какая-то комбинация: лютеранский дух, то есть Десять Заповедей, очень похожи… имеют какое-то отношение к моральной философии Канта. И так далее и так далее. Что между евреями и немцами духовно есть глубокая связь. Тоже чепуха! Тоже чепуха — но он в это верил. Он был немец, и он был еврей. Он был настоящий еврей, он поехал в Россию, его там несли, как икону, русские евреи. Из города в город. К нему подошел Семен Франк, на его лекции, и спросил вопрос какой-то потом. Тот сказал: «Как ваше имя?» — «Мое имя Франк».— «Ну, Франк бывает еврейское имя». Он говорит: «Я крещеный». Тот повернулся и вышел из комнаты, больше ни слова.
— Как известно, когда убивают…
— Это был Cohen. (Он продолжил таким тоном, как будто был немного огорчен, что приходится так говорить.) Если вы спрашиваете про немецкий дух, мой ответ: нет. И так же про еврейский дух, он так же этому противится. И что такое еврейский дух, я не знаю.
— Я не сказал «еврейский дух», я сказал «иудаизм» — «немецкий дух и иудаизм».
— Иудаизм — я не знаю: иудаизм — это иудаизм, это все, что относится к евреям, так сказать. Образ жизни; отношение к миру; религия, конечно,— от этого все идет. Привычки, культура, язык — все это так. Я не думаю, чтобы это было какое-то общее четкое понятие. Столкновение с немцами было, понятно, большее, чем с французами. Но дрейфусовское дело было так же в свое время страшно.
— Но когда убивают шесть миллионов человек…
— Да-да.
— …вообще — шесть миллионов…
— Да-да.
— …неважно, евреев или неевреев…
— Да-да.
— …и к тому же это оказывается половина численности целого народа…
— Да-да.
— …то очень трудно — и не хочется — объяснять это просто обстоятельствами.
— Нет, нет, нет, я не говорю этого. Это идеология. Есть такая вещь — идеология. Послушайте. Гитлер верил в то, что самая важная вещь — и вся гитлеровская среда, их мысли, те книги, которые Гитлер читал, говорили, что главное… что все зависит от расы. Что нордическая раса, северная раса — самая, так сказать, самый творческий народ в мире. Есть более низкие расы, как кельтская, или, я не знаю там, римляне. Более низкие люди. Тоже люди, тоже, но они не тевтоны. А всё замечательное, всё настоящее, всё великое производится этой очень даровитой и морально очень высокой расой. В это верил определенный круг, верили разные немецкие профессора, в девятнадцатом столетии. Трайчке. Ну, эти люди, вероятно, были антисемитами, но обыкновенными антисемитами — как все. Потом Гитлер встал и сделался фанатиком этого дела и решил, что или он победит, то есть или он и его движение, и тевтоны с ним, победят, или Германия идет к концу. Ну, он решил, что такие есть подчеловеки, untermenschen, и они ненавидят menschen, ненавидят людей. Вся их религия направлена против них, они, в общем, дьявольское наваждение. Они служат дьяволу, Сатане, как это говорили в Средние века. И эти люди — они как муравьи, понимаете ли, могут под…— как сказать undermine?
— Подточить, подъесть, разложить…
— …разложить, да-да — разложить все. И эти люди не могут этого не делать. Их характер таков, что они должны противиться великой тевтонской расе. Если верить этому, все можно объяснить. В таком случае нужно их истребить. Истребление проистекает из самой теории. Обыкновенный антисемитизм никогда не был настроен… не хотел убивать евреев.
Диалог из последовательных вопросов и ответов, преследующих логику объяснения, даже если и передает напряженность, с какой Берлин говорил на эту тему, заведомо закрыт для страстности, негодования, боли, презрения, которые возбуждало в нем всякое проявление юдофобии. Я прочел письмо Зинаиды Гиппиус Брюсову, где она называет молодого Мандельштама «неврастенический жиденок». За очередным ланчем в колледже, сидя рядом с Берлином, когда о ней зашел разговор, я упомянул об этом. «А мне все равно»,— откликнулся он с вызовом, подчеркнутым необычной для него ледяной интонацией. Помолчал и, чтобы не оставлять меня в недоумении, объяснил: «Мандельштам, не Мандельштам — мне все равно. Для меня ее нет. Ни ее, ни мужа. Для вас есть? Где? Что они — чтобы быть?»
Читать дальше
![М Улицкая В Израиль и обратно. Путешествие во времени и пространстве. [калибрятина] обложка книги](/books/423806/m-ulickaya-v-izrail-i-obratno-puteshestvie-vo-vrem-cover.webp)


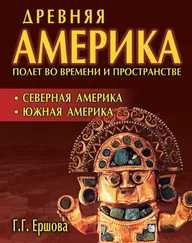





![Жан-Кристоф Руфин - Кругосветное путешествие короля Соболя [калибрятина]](/books/390591/zhan-thumb.webp)


