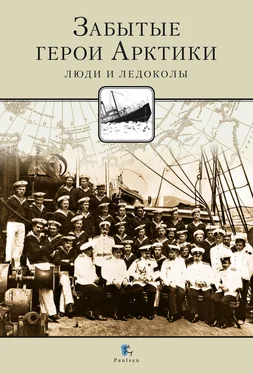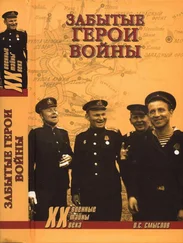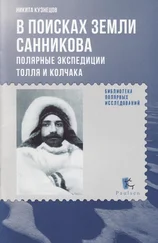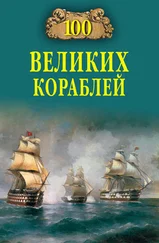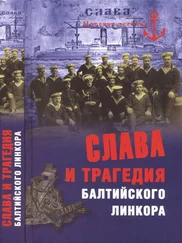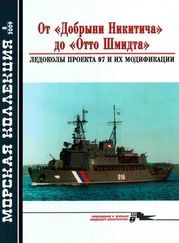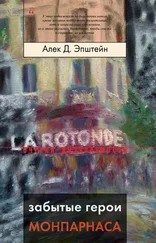Благодаря всему вышеизложенному исследование Великого Северного морского пути подвинулось вперед настолько, что в 1745 г. Петербургская академия наук выпустила «Атлас Российской», в котором этот путь на большей части своего протяжения в общем получил хоть приблизительное изображение по местоположению, форме и масштабу.
М. В. Ломоносов, много потрудившийся на поприще географии вообще и географии России в частности, тоже был инициатором экспедиции для отыскания Северо-Восточного прохода. Благодаря его авторитету и настойчивости была снаряжена в 1764 г. экспедиция под начальством В. Я. Чичагова. Ломоносов составил для него очень обстоятельную инструкцию. Однако перед самым отплытием Чичагову по неизвестной причине было указано плыть Северо-Западным проходом до Камчатки. Двукратная его попытка в 1765 и 1767 гг. не увенчалась успехом: далее 80°21′ с. ш. по восточную сторону Шпицбергена ему пройти не удалось.
Приобретя более близкое знакомство с омывающим северные берега России Ледовитым океаном и накопив некоторый опыт в полярных плаваниях, русские еще в XVIII веке пришли к совершенно верной мысли, что нужно изучать Северо-Восточный проход по частям, как это видно на примере Великой Северной экспедиции. Этого приема продолжали держаться и впоследствии. В первую очередь обратили свое внимание на исследование западной, исходной части Северо-Восточного прохода (проливы между Баренцевым и Карским морем и сами эти моря, особенно Карское). Важнейшими экспедициями с этой целью являются: плавание в 1760 г. Саввы Ложкина, который первый объехал в две зимы и три лета вокруг южного острова Новой Земли; плавание Розмыслова в 1768 г., произведшего впервые съемку Маточкина Шара; четырехкратное путешествие Литке в 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. Литке хотя и не проник далее своих предшественников и даже пришел к неверному выводу, что «морское сообщение с Сибирью принадлежит к числу вещей невозможных», но дал замечательное по точности описание Баренцева моря, которое он посещал и исследовал. Плодом плаваний Пахтусова в 1832–1833 гг. и в 1834–1835 гг., который, по признанию самого Норденшельда, «занимает одно из выдающихся мест среди полярных мореплавателей всех наций», была масса новых важных сведений о полярном море. Ни одна из арктических экспедиций не доставляла такого множества драгоценных астрономических определений мест, геодезических измерений, метеорологических наблюдений, замечаний о приливах, отливах и пр., какое было плодом деятельности Пахтусова. Он исследовал Маточкин Шар и первый из исследователей заснял часть восточного берега Новой Земли.
Не нужно думать, что в восточной части Северного Ледовитого океана в это время вовсе не велась исследовательская работа, нет: она и там велась, но только не так интенсивно, как в западной части. В 1760 г. Шалауров по собственной инициативе вышел с Лены, намереваясь обогнуть северо-восточную оконечность Азии и пройти в Великий океан. Достигнув реки Яны и перезимовав здесь, на следующее лето он обошел Святой Нос, открыл гористый остров и опять зазимовал в устье Колымы. В 1762 г. ему удалось достигнуть Шелагского мыса, но льды отбросили его назад; он хотел еще раз перезимовать и в следующее лето снова возобновить попытку обогнуть Шелагский мыс, но утомленный экипаж воспротивился его намерению, и он принужден был вернуться домой. Все это не ослабило его энергии. Он отправился в Москву, где ему удалось исходатайствовать правительственную субсидию, и в 1764 г. снова пустился с Лены в Северный Ледовитый океан, но обратно он не вернулся. Несмотря на то что Шалауров не достиг своей цели, все-таки он во многом пополнил наши географические сведения о местах совершенно неизвестных и с удивительной точностью нанес на карту берег от реки Яны до Шелагского мыса. Он первый также описал Чаунскую губу.
В 1763 г. сержант Андреев описывал Медвежьи острова и привез известие, что он видел «большую обитаемую землю» в Северном Ледовитом океане. В 1767–1769 гг. были отправлены из Якутска геодезисты для проверки известия Андреева о земле; они определили широту самого северного из Медвежьих островов, но никаких признаков какой бы то ни было земли не видели.
Промышленники в поисках мамонтовой кости переходили часто с материка на острова и по островам с одного на другой и знакомились мало-помалу с берегами Северной Азии и близлежащими островами; они сообщали о своих исследованиях во всеобщее сведение. Часто это были очень ценные сведения, например, сообщение Ляхова об открытии им в 1770 г. островов, названных его именем; Санникова – о двух открытых им в 1805 г. островах, Фаддеевском и Столбовом; Сыроватского – об открытии им в 1807 г. Новосибирских островов и т. п.
Читать дальше