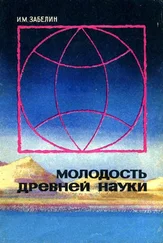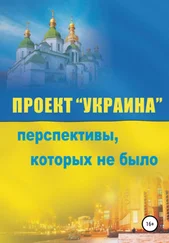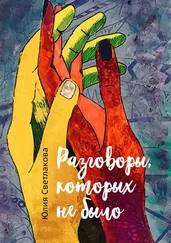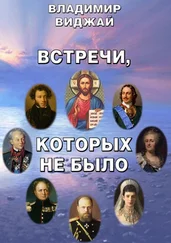Кочи Федота Алексеева вышли из устья Колымы в Восточно-Сибирское море около 20 июня 1648 года и повернули на восток. Лето выдалось ранним, сравнительно теплым, и льды унесло от берегов. Однако кочи землепроходцев того времени под прямыми парусами могли ходить только по ветру; ветры же на беду установились встречные, и это очень замедлило плавание. Недели через две после начала похода разыгралась буря, во время которой два коча (из семи) отделились от каравана и разбились о скалы. Их экипажи благополучно выбрались на сушу, но там на мореплавателей напали местные жители и всех их перебили. Остальные кочи во главе с Федотом Алексеевым сумели пристать к берегу и переждали бурю; потом они продолжили путь. Вскоре мореплаватели увидели «первый Святой Нос от Колымы» — мыс Шелагский, затем миновали пролив Лонга, не заметив острова Врангеля, и Федот Алексеев сделал первые выдающиеся географические открытия — открыл Чукотское море и Чукотский полуостров.
Встречные ветры по-прежнему мешали плыть на восток, внезапные бури грозили гибелью. Еще на два коча уменьшился караван Федота Алексеева. Судьба этих кочей не ясна. Однако есть основание полагать, что их занесло на Аляску и там, на побережье Кенайского залива, мореходы сначала образовали небольшую русскую колонию», а потом смешались с местными жителями — эскимосами или индейцами…
Но оставшиеся три коча, которые вели неустрашимые люди — вожак экспедиции Федот Алексеев, гулящий атаман Герасим Анкудинов и представитель властей Семен Дежнев, — продолжали путь вдоль суровых, неприветливых берегов Чукотского полуострова.
И первого сентября, в Новый год по старомосковскому календарю, Федот Алексеев, Герасим Анкудинов и Семен Дежнев обогнули Большой Каменный Нос и круто повернули к юго-западу.
Так был открыт пролив, который теперь носит имя Беринга, гораздо менее заслужившего эту честь, чем руководитель торгово-промысловой экспедиции Федот Алексеев.
У входа в Берингов пролив вновь началась буря, и о скалы разбило коч предприимчивого казака Герасима Анкудинова. Пришлось сделать остановку и подобрать потерпевших кораблекрушение.
Лишь два коча из семи вышли в бурный пролив Беринга. Там Федот Алексеев совершил еще одно открытие — открыл острова, которые некоторое время назывались островами Гвоздева, а теперь называются островами Диомида.
Следуя вдоль юго-восточных берегов Чукотки, Федот Алексеев миновал мыс Чаплина (он назван в память участника первой экспедиции Беринга) и где-то в этом районе вновь высадился на берег. Очевидно, он хотел наладить деловые отношения с местными обитателями, начать с ними меновую торговлю и, вероятно, узнать дорогу к реке Анадырь. Береговые чукчи напали на пристанище мореплавателей. Бой закончился победой русских, но вожак экспедиции Федот Алексеев был ранен.
Пришлось кочам вновь выйти в море, хотя уже штормило и ветер усиливался с каждым часом. Некоторое время кочи держались неподалеку от берега, но потом ураганный ветер вынес их в море, которое открыл Федот Алексеев, но которое называется Беринговым.
В течение нескольких часов Федот Алексеев и Дежнев, человек, которому отныне припишут все открытия вожака и организатора экспедиции, видели друг друга, но потом их разнесло в разные стороны.
Больше им не суждено было встретиться.
Выдержать этот шторм смог лишь коч самого опытного мореплавателя — Федота Алексеева. Дежнева и его спутников выбросило на берег, и они пешком отправились на Анадырь.
А Федот Алексеев, пристав к берегу и, очевидно, посоветовавшись с гордым и самолюбивым Герасимом Анкудиновым, решил плыть дальше на юг. И они проделали путь, почти равный пройденному. Сколько времени у них ушло на это — сказать трудно. Видимо, месяца два — сентябрь и октябрь. Но коч Федота Алексеева плыл на юг по морю, которое целиком не замерзает даже в суровые зимы, и поэтому льды не мешали им, а штормы они могли пережидать в многочисленных бухтах. Во время этого плавания Федот Алексеев и его товарищи открыли Корякский хребет, отроги которого вплотную подступают к морю. Они миновали Олюторский полуостров, Карагинский залив, они подошли к берегам Камчатки и первыми из русских увидели ее огнедышащие горы — вулканы, о существовании которых не подозревал никто из них. Разумеется, при этом они ничуть не заботились о приоритете и не подозревали, что потомки припишут честь открытия Камчатки атаману-головорезу Атласову, казаку исключительного ума, но который, что про него ни говори, все-таки побывал на Камчатке через пятьдесят лет после Федота Алексеева, Герасима Анкудинова, Емельяна Степанова и их отважных сподвижников.
Читать дальше
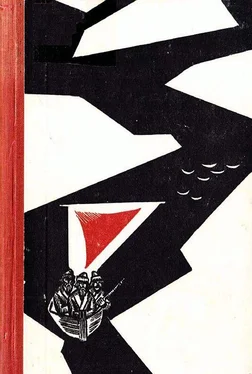

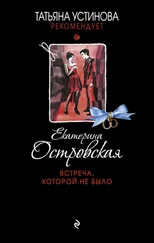
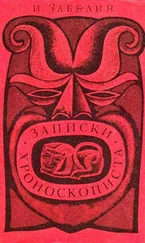
![Игорь Забелин - Загадки Хаирхана [Научно-фантастические повести]](/books/408249/igor-zabelin-zagadki-hairhana-nauchno-thumb.webp)