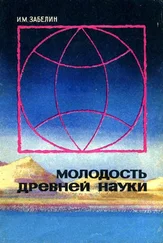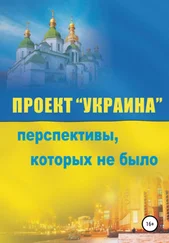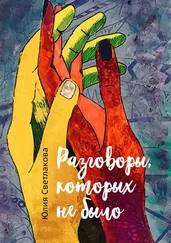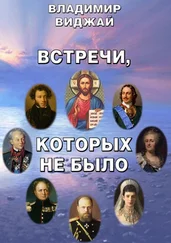Вот и представляется мне, что Москвитин — москвич, что родился он в Москве или ее окрестностях. Потом захваченный общим стремлением на восток, он покинул родные места, уже проторенным путем вышел на Урал, миновал его, на некоторое время обосновался в Томске или Красноярске, оттуда перебрался в Якутск и наконец первым из русских увидел Тихий океан… Славный, хоть и нелегкий путь, что и говорить!.. Быть может, со временем — в архивах будут найдены более подробные биографические сведения о Москвитине (находят же все новые и новые документы о Дежневе!), и тогда, я уверен, эта догадка подтвердится.
Москвитин и его товарищи называли открытое ими море Ламским (от эвенкского слова «лама» — вода). Так или просто Лама называли его и другие казаки. Своим же настоящим названием море в сущности обязано другому казаку — Семену Шелковнику. Впрочем, я немного забежал вперед, и сначала мне придется рассказать еще о двух землепроходцах.
Первый из них — казак Андрей Горелый, участник похода на северо-восток страны, который возглавлялся небезызвестным Михаилом Стадухиным (о нем нам ещё придется вспомнить). Отряд Стадухина, в котором принимал участие еще сравнительно молодой и во всяком случае малоопытный казак Семен Дежнев, получил задание собирать ясак с коренных обитателей верхней части бассейна Индигирки. Отряд обосновался на Оймяконе.
И оттуда, с Оймякона, Михаил Стадухин отправил в 1642 году на реку Охоту отряд под началом казака Андрея Горелого. В отличие от Москвитина Горелый шел к великому «морю-окияну» посуху: отряд его располагал «коньми», как было сказано потом в отписке, и сопровождало отряд двадцать человек якутов (а казаков было восемнадцать всего-навсего), и якуты были Не только солдатами, но и «вожами», проводниками, и быстро вывели казаков по нелегкому в общем-то пути к Охотскому морю.
Отряд Андрея Горелого достиг реки Охоты и достиг моря, а потом благополучно вернулся обратно на Оймякон.
Нет необходимости как-то противопоставлять поход Москвитина походу Горелого, как это подчас невольно случается в нашей исторической литературе: авторы иногда подчеркивают, что маршрут Горелова был сложнее и труднее. Ретроспективная оценка походов XVII века сейчас затруднительна, Мужество того и другого землепроходца очевидно, но приоритет Москвитина остается бесспорным, а, так сказать, для судеб Охотского моря поход Андрея Горелого маловажен — принципиально отличен он от похода Семена Шелковника, в частности.
Сведения о фантастически богатых краях, о море, об Амуре, доставленные в Якутск промышленными людьми и казаками, вызвали, естественно, немалый интерес в Якутске. Своеобразно, я бы сказал, воспользовался сложившейся обстановкой некто Василий Поярков, но об этом в специальном разделе «Река». Сейчас же нужно отметить лишь следующее: на Охотское море Поярков попал в 1645 году, уже в конце своего похода. Пройдя по Амуру, он вышел через лиман в открытое море, добрался до устья Ульи и перезимовал там в зимовье Москвитина. Ранней весной 1646 года Поярков покинул берега Охотского моря, оставив в Ульинском остроге семнадцать казаков во главе с Ермилом Васильевым, и в июне прибыл в Якутск. Весь его поход продолжался три года, а из ста тридцати человек, отправившихся в поход, вернулось человек пятьдесят.
Новые рассказы о богатых краях привели к тому, что тем же летом еще один отряд казаков был отправлен к Ламскому морю. Было в отряде сорок человек: Алексей Филипов, Иван Афонасьев, Ждан Власов, Фома Федоров, Конан Ларионов, Федор Яковлев, Иван Савин, Андрей Иванов да Нил Володимеров с товарищами. Возглавлял отряд десятник Семен Шелковник, о котором известно, что пришел он на Лену в числе первых, принял у Ерофея Хабарова соляную варницу на Усть-Куте, а к 1641 году перебрался в Ленский острог.
Семен Шелковник не стал тратить время на поиски новых путей к «великому морю-окияну» — дорога и так оставляла желать лучшего: часто разливались от дождей мелкие горные реки, затопляя берега, набухали, становясь почти непроходимыми, болота-бадараны. Поэтому Семен Шелковник в основных чертах повторил маршрут Ивана Москвитина: по притокам Алдана дошел до водораздельного хребта Джугджур, перевалил через него и поздней осенью, к тому времени, когда просветлела лиственничная тайга на западных склонах Джугджура и осыпавшаяся желтая хвоя прикрыла землю до снега, отряд по небольшой речке Сикше спустился к Улье.
Там, в широкой долине Ульи, заросшей лесом, болотистой, — на болотах черным-черно было от небывалого урожая ягод шикши — казаков настигли холода. Мест этих никто из них не знал и зимовье срубили прямо в устье Сикши [4] Название речки происходит от обилия ягод шикши, или вороники, — мелкого полукустарничка из вересковых, которую в устье Амура до сих пор называют сикшей.
. До весны серьезных дел у зимовщиков не было, эвенки поблизости не показывались, и казаки расходились небольшими группами по окрестностям, ставили ловушки на соболя, но промышляли не очень удачно: тайга здесь была иной, чем в знакомой им Восточной Сибири, и, наверное, иначе вел себя в ней драгоценный зверек. Теперь, когда разработана классификация хвойных лесов, мы бы сказали, что в долине Ульи светлохвойная тайга замещается темнохвойной: даурскую лиственницу постепенно вытесняют другие породы деревьев — белокорая пихта и аянская ель.
Читать дальше
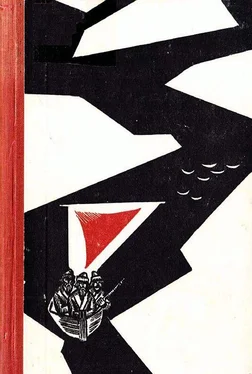

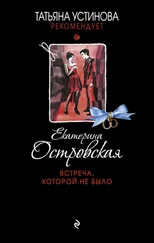
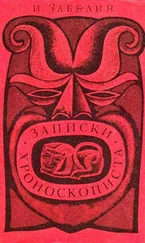
![Игорь Забелин - Загадки Хаирхана [Научно-фантастические повести]](/books/408249/igor-zabelin-zagadki-hairhana-nauchno-thumb.webp)