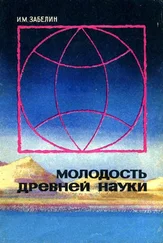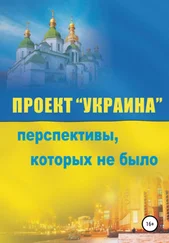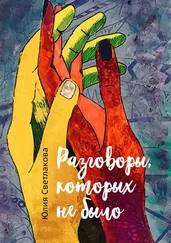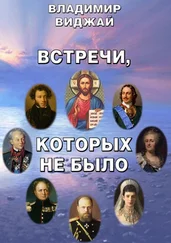Итак, с некоторым опозданием, рискуя не одолеть перевал до темноты, мы все-таки вышли в поход.
Если не считать переправы через незамерзшие, но замерзающие реки, то самым трудным оказался не подъем на перевал, а путь по перевалу. В отряде нашем и до несчастья с рыжим конем не было полного комплекта лошадей — двое поочередно шли пешком, — а теперь пеший отряд увеличился до трех человек.
Я вел больную лошадь. Как на грех, перевал оказался сильно заболоченным. Болота чередовались с россыпями скользких острых камней, скрытых снегом. Болотная жижа еще не замерзла, конь то и дело по брюхо проваливался в трясину, и вытаскивать его оттуда приходилось чуть ли не на руках, потому что он не мог отталкиваться больной ногой. Немногим легче было и на курумах, где конь проваливался в невидимые расщелины, оскальзывался, сбивая себе в кровь щиколотки.
Мы тоже и увязали в трясине, и падали, поскользнувшись на камнях. Я насквозь промок почти до пояса, но настроение у меня было превосходным: я прощался с Сибирью, прощался с горами, и такой заключительный аккорд тогда меня вполне устраивал!
А снег — густой и липкий — не прекращался ни на минуту. Сильный ветер нес его почти параллельно земле, и многослойная кисея скрывала горы, скрывала караван, едва мы с рыжим застревали в очередной колдобине, но искать караван мне потом не приходилось: буро-желтая перекопанная тропа точно указывала его путь.
Честно говоря, при такой дороге не до любования пейзажами, как бы хороши они ни были. Я смутно помню размытые очертания близких сопок, черноту отвесных скал, черную змейку на дне глубокого незамерзшего каньона… Запомнились отчетливо только две как бы вырванные из общего ряда картинки… Спустившись на дно поперечной лощины, я потащил лошадь, перекинув повод через плечо, на крутой противоположный склон. Ветра в лощине не было, снег падал ровно, но едва мы вышли на бровку, как порывом ветра словно приподняло белую пелену, и вдалеке я увидел караван: плотно запахнувшись в плащ-палатки и укрывшись от ветра за коричневой отвесной скалой, меня поджидали мои спутники, а лошади, сгрудившись, все стояли хвостами к ветру, низко опустив головы… Взлетевшая было пелена вновь опустилась к земле, и бесчисленные штриховые линии быстро-быстро замазали белым картину… А под вечер, когда мы спустились к лесному поясу, нам открылся совершенно неожиданный пейзаж. У верхней границы леса лиственницы почему-то не пожелтели, а стали янтарными. Черные с подветренной стороны стволы их казались озаренными янтарным сиянием, а дальше все было мутно-белым, словно художник нарочно не дорисовал задний план, чтобы ярче выделить черно-янтарные деревья…
Силы были уже на исходе, когда мы шли по лесу, но глаз автоматически продолжал фиксировать детали, из которых особенно запомнилась мне одна, странная: все без исключения деревья пожелтели, но сломанные ветки на них оставались еще свежезелеными.
Заночевали мы в снегу, на крохотной площадке в ущелье над рекой, а потом был еще один трудный день, и вновь мы разбили лагерь уже в Мондинской котловине, в осиннике, и крепко уснули — уже ни о чем не заботясь — под шелест вечно трепещущих бронзовых листьев…
Потом были еще маршруты (но уже на машине) по Тункинской котловине, потом ночевали мы в Култуке на берегу Байкала, и солнце, на несколько секунд показавшись из-за туч, упало алой каплей в его черные волны… И — Москва.
А в Москве очень скоро обнаружилось, что в ближайшее время мне не удастся изменить род занятий и переквалифицироваться в биогидролога. Причин тому было несколько. Во-первых, для биогидрологических работ требовалась солидная экспериментальная база где-нибудь на берегу моря, а ее не оказалось. Во-вторых, и самими специалистами работы эти велись от случая к случаю и постепенно заглохли. В короткие же аспирантские годы все подымать заново самому и налаживать было более чем сложно — нереально. В-третьих, я числился аспирантом на кафедре физической географии СССР, и у кафедры имелись свои виды на меня. В-четвертых, мои собственные интересы постепенно обрели иное направление: меня увлекла тогда еще совсем слабо разработанная теория физической географии… Короче говоря, я довольно легко смирился с неосуществимостью своих прежних намерений, и теперь, много лет спустя, только рад этому.
Но чего я определенно не хотел, так это возвращаться в Саяны, в тот же самый район. Меня влекли иные дали, мне требовался географический простор, и мысленно я уже странствовал по горам и пустыням Средней Азии. Но… Вот это самое «но» оказалось настолько весомым, что и тут я потерпел фиаско.
Читать дальше
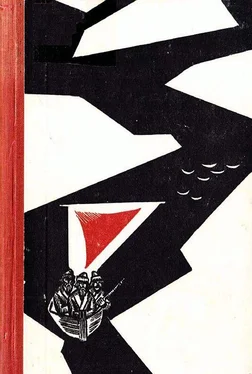

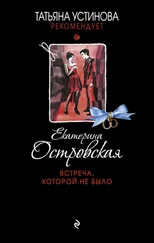
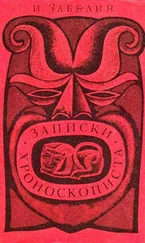
![Игорь Забелин - Загадки Хаирхана [Научно-фантастические повести]](/books/408249/igor-zabelin-zagadki-hairhana-nauchno-thumb.webp)