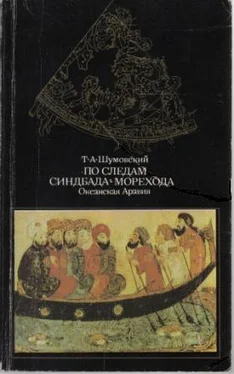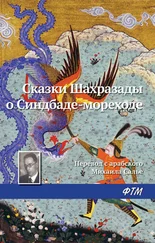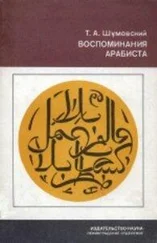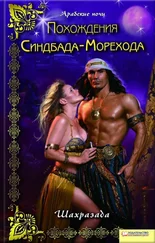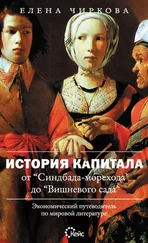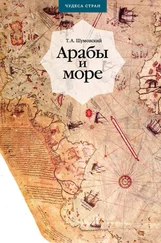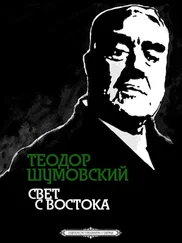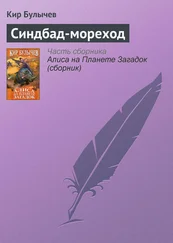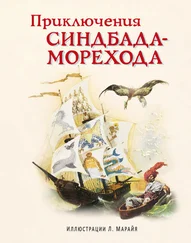Европейская колонизация позднее сделала свое дело — историческое прошлое стран, утративших независимость, все более одевалось дымкой легенд и наконец растворилось в них. Остались одни предания, отрывочные и неясные, которые в глазах европоцентричного читателя преобразились в увлекательные сказки Шехерезады. Сравнительно небольшие по объему повести Синдбада Морехода тонут в калейдоскопе событий «Тысячи и одной ночи», происходящих на суше, а по содержанию они идут вразрез с укоренившимися представлениями об арабах как сухопутном народе.
5
Однако пытливые умы слышали в глухих отголосках больше, чем того требует занимательная литература; интуиция говорила им, что повести Синдбада рождены не игрой фантазии, коей предназначено расцвечивать страницы сказок, а реальной историей, с чьего лика и пишет позднейшее время более или менее правдоподобные портреты. В этой связи характерна мысль Т. Эрмана: «Еще в тот период, когда вся Европа лежала в глубоком сне, арабы являлись торговой, морской, любящей искусства, предприимчивой нацией». Скорее догадка, нежели обоснованный вывод, это высказывание выдающегося немецкого географа, прозвучавшее на исходе того же восемнадцатого столетия, знаменовало начало нового, критического века в летописях европейского востоковедения.
Неутомимый австрийский исследователь, несправедливо забытый И. Хаммер-Пургшталль, чья востоковедческая деятельность, в частности, сыграла небезынтересную роль в творчестве Бальзака и Гёте, опубликовал между 1834 — 1839 годами серию переводов из энциклопедии стамбульского адмирала и поэта Челеби по рукописи, приобретенной в Константинополе. Открытие венского ученого, эпохальное для своего времени, сохранявшее первостепенную научную ценность на протяжении всего XIX века, было одним из тех раа51кш, как говорят финны, опорных камней, на которых десятилетием позже Рено смог воздвигнуть величественное здание своего «Общего введения к географии восточных народов». Учитывали его, конечно, и более поздние авторы, например Бонелли, отдавший много труда изучению другой — неапольской — рукописи книги Челеби. Последним из крупных памятников эпохи Челеби в европейском востоковедении является издание в 1897 году немецкого перевода топографических частей энциклопедии турецкого флотоводца, осуществленное Максимилианом Биттнером и Вильгельмом Томаше-ком; интересно оно главным образом тридцатью приложенными картами, на которых ясно видна зависимость данных Челеби и португальской географии Индийского океана от арабских морских справочников позднего средневековья.
Все эти достойные свершения, как и сопутствующая им серия небольших по объему этюдов, посвященных частным вопросам, оказались, однако, вехами предыстории. Такую же судьбу испытали появившиеся в том же XIX веке и самом начале XX работы, в большинстве своем вдохновленные исследованиями труда турецкого мореплавателя: издания «Известий о Китае и об Индии» Абу Зайда Сирафского (Лангле и Рено, 1811, 1845) и «Чудес Индии» Бузурга ибн Шахрийара (Ван дер Лит, 1883), «Император Василий Болгаробойца.
6
Хроника Яхьи Антиохийского» В.Р. Розена (1883), «Византия и арабы» A.A. Васильева (1902). Произошла эта переоценка в связи с тем, что в 1912 году наука дождалась нового открытия.
Оно принадлежит французским ученым Г.Феррану(1864— 1935) и М. Годфруа-Демомбиню (1862—1957). Разыскивая в фондах Парижской национальной библиотеки материалы для капитального свода известий о Дальнем Востоке в ближневосточной литературе (этот шедевр филологии увидел свет через два года под названием «Relations de voyages et textes gйographiques arabes, persans et turks relatifs а l'Extrкme-Orient du VIII-e au XVПIП-e siиcles»), увлеченные исследователи случайно обнаружили две арабские рукописи, заключавшие в себе сочинения XV и XVI веков по мореходству. Одна из них поступила в библиотеку за полвека до описываемых событий, другая, не привлекая ничьего внимания, хранилась в ней еще с начала восемнадцатого столетия. Имена авторов этих сочинений — Ахмад ибн Ма-джид и Сулайман ал-Махри. Молено не удивляться многолетнему пренебрежению к ценным рукописям, если помнить о психологическом барьере между средневековой действительностью Азии и новой наукой Европы: при всей глубине исследовательской мысли, неукротимо и последовательно проникавшей в суть явлений под воздействием духа Возрождения и рационализма XVIII века, Восток представлял для Запада чужой мир, где многие детали ускользали из поля зрения европейца, другие забылись, растворившись в море общих представлений; лишь одиночки, личности науки, догадывались, что прошлое дальних народов было богаче и ярче расхожих представлений. С другой стороны, в ходе европейской колонизации множество документов истории восточных стран погибло и подверглось либо намеренному уничтожению, либо сильной — до неузнаваемости — переработке в метрополиях, что тоже не способствовало прояснению картины. Об арабских источниках, касающихся мореплавания, принято было думать, что они безвозвратно исчезли и невосстановимы; следовательно, никто и не надеялся найти их в двух старых рукописных сборниках под рядовыми четырехзначными номерами...
Читать дальше