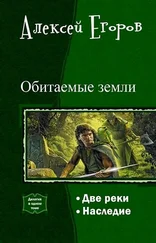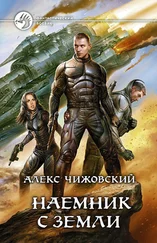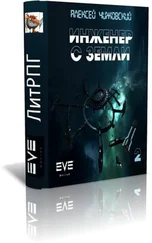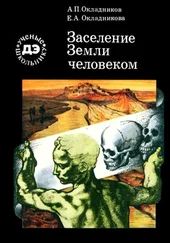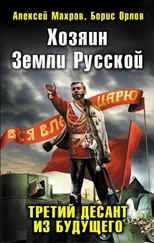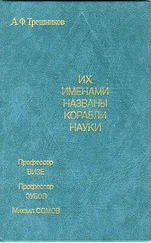Как они давали эти прогнозы? Ведь на огромных пространствах имелась лишь цепочка полярных станций на побережье материка и островах. А в Центральной Арктике ничего не было. Некоторые знания движения воздушных масс, большой практический опыт да единичные полеты с разведкой погоды выручали наших синоптиков. И вот в начале апреля они дали «добро» летчикам на прыжок в неизвестное — на дрейфующую льдину.
9 апреля 1948 года самые опытные полярные пилоты — И. И. Черевичный и И. С. Котов вылетели на лыжных самолетах. На борту самолета Черепичного находился полярный ветеран-летчик М. В. Водопьянов. Через несколько часов они сообщили, что совершили посадку в намеченной точке к северу от Новосибирских островов. Создана первая база экспедиции. Ее координаты — 80°32′ северной широты и 150°10′ восточной долготы. Экспедиция началась.
На другой день туда прилетела первая научная группа в составе магнитологов М. Е. Острекина и Б. Е. Брюнпели, метеоролога В. Г. Канаки, ледоисследователей И. С. Песчанского и В. М. Сокольникова и океанографов М. М. Сомова и П. А. Гордиенко.
13 апреля был совершен следующий «прыжок» к северу — Черевичный и Котов основали вторую базу экспедиции всего лишь в 380 километрах от Северного географического полюса, на 86°З8' северной широты и 157°22′ восточной долготы. Вскоре туда была доставлена научная группа в составе океанографов Я. Я. Гаккеля, В. Т. Тимофеева, метеоролога А. А. Ледоховича и магнитологов В. П. Орлова и Н. А. Миляева.
Я был назначен руководителем третьего научного отряда для работы в районе Полюса относительной недоступности, на границе Восточного и Западного полушарий. Третью базу было поручено открывать пилотам М. И. Козлову и М. Н. Каминскому на самолетах ЛИ-2 на лыжах. Я вылетел на одном из этих самолетов 17 апреля. Вначале летели по освоенной трассе на базу № 1. Оттуда регулярно сообщали о хорошей погоде. Нас приняли на льдине по всем правилам, как на настоящем аэродроме. Здесь же раскинулся целый поселок из палаток, в стороне, за грядой торосов, научный городок, где мои коллеги уже полным ходом вели научные исследования. Все буднично и деловито.
Заправившись горючим, наши самолеты взяли курс на восток, примерно вдоль восьмидесятой параллели, теперь уже в неизвестность. Синоптики нас заверили, что над всем Арктическим бассейном сейчас установился антициклон. Но вскоре самолеты оказались над сплошным слоем облаков.
— Что делать? Возвращаться обратно? — спрашивал я пилота.
— Жалко горючего, жалко времени. Еще немного вперед, а там и повернем, — отвечал он.
К счастью, при подходе самолетов к намеченному району пелена облаков оборвалась. Видимость стала беспредельной. Сияло низкое солнце, сверкали снега.
Тонкими черными нитями извивались трещины, рассекающие ледяные поля. А местами были видны серые пятна — это полыньи и разводья, покрытые тонким льдом. Отсюда, с высоты, они выглядели совсем невинными, и лед как будто застыл неподвижно. Но это только кажется. Под влиянием течений и ветра лед непрерывно движется. Массы льда в миллионы тонн даже при небольших скоростях обладают огромной энергией. Движение льдин неравномерное, и, сталкиваясь, они разламываются, куски громоздятся друг на друга, образуя гряды торосов.
Через несколько часов мы совершили посадку на большую, покрытую снегом многолетнюю (паковую) льдину. Штурман Н. М. Жуков по солнцу определил координаты. Мы сели на 80°15′ северной широты и 175°40′ восточной долготы. Над нами было светло-голубое небо, разрисованное легкими перистыми облаками. Мороз тридцать градусов.
В первые часы все кажется неуютным, холодным. Первым делом собрали жилые палатки, в них загорелись газовые плитки, признанные повара-любители из состава экипажа самолета приготовили обед. И через несколько часов льдина стала обжитой, нашей. Остальные члены научной группы должны были прилететь следующим самолетом вслед за нами, но на побережье задула сильная пурга, и все полеты прекратились.
Со мной были лебедка и палатка. Я приступил к подготовке гидрологической лунки в стороне от аэродрома и жилья. Процедура не сложная, но тяжелая. На ровной ледяной площадке я убрал снег, топором вырубил во льду круглую яму глубиной 40 сантиметров, диаметром 1,5 метра. В центре этой ямы пешней выдолбил колодец глубиной 70 сантиметров и диаметром 30 сантиметров. Наступил наиболее ответственный момент. В резиновую оболочку заложено около 2 килограммов аммонита, туда же вставлен запал-взрыватель и около двух метров бикфордова шнура. Заряд опускаю в колодец и засыпаю осколками льда, утрамбовывая при этом осторожно, но плотно. Зажигаю спичку, закурился невинным голубым дымком шнур. Отбегаю метров на 50 в подветренную сторону и жду. Через несколько секунд раздается взрыв, в воздух взлетает фонтан осколков льда, затем воды; вслед за звуком взрыва под ногами раздается удар подледной волны. Осколки льда с шумом падают на лед. Потом мне приходится вылавливать из лунки куски льда и массу шуги специальным сачком. Образовавшиеся на стенках лунки небольшие ледяные выступы скалываю пешней. И вот готово окно в подледный океан. Вода в лунке прозрачная, зелено-голубого цвета. Для определения прозрачности опускаю в лунку белый диск на топком лине. Только на глубине 48 метров его не видно.
Читать дальше
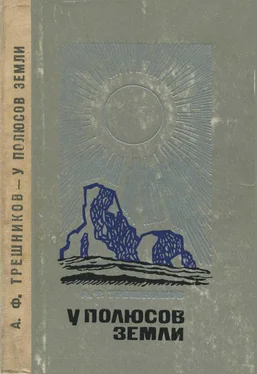
![Алексей Чижовский - Инженер с Земли 6 [СИ]](/books/31163/aleksej-chizhovskij-inzhener-s-zemli-6-si-thumb.webp)