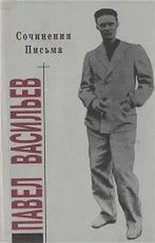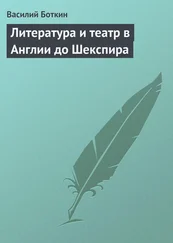Севилья, как и следовало ожидать, изображена г. Боткиным con amore [136]. В этом городе, говорит он, испанский элемент слился с мавританским и из этого слияния вышло нечто необычайно привлекательное, оригинальное и поэтическое. Красота Севильи не от природы и не от искусства; она стоит середи широкого поля, окруженная ветхими мавританскими стенами, ее Гвадалквивир не широк и не красив, ее улицы узки и извилисты, дома чужды всякого архитектурного стиля, в целом город не красив, но он полон очаровательных подробностей для человека с артистической душою.
Что может быть прелестнее внутренних мавританских дворов в домах Севильи, так, как они описаны в «Письмах об Испании»? Эти дворы составляют щегольство севильян, они видны с улицы сквозь большую решетчатую дверь, они украшены строем тонких, грациозных колонн, фонтанами и цветами, зеркалами и картинами. Сверху дворы закрыты или полотном, или натуральной крышей из винограда. «Севилья, — по выражению путешественника, — оживляется лишь тогда, когда становится темно, — точно как нервическая красавица» {449} . Занавесы дверей тогда отдергиваются, каждый двор освещен лампами, фонтаны блещут, в каждом окне сверкает несколько пар темных глаз. Женщины, все в черном, в черных кружевных мантилиях, толпами высыпают на улицу. Всюду видны богатые национальные костюмы на мужчинах, всюду идет оживленная беседа, всюду раздается музыка и стук кастаньетов. Красавицы Севильи вполне достойны своей древней славы: «Эти чудные головки, которые, можно сказать, гнутся под густою массою своих волос, — самой изящной формы; как бедна и холодна кажется здесь эта условная, античная красота. Невыносимая яркость и блеск этих черных глаз смягчены обаятельною негою движений тела, дерзость и энергия взгляда — наивностью и безыскусственностью, которыми проникнуто все существо южной испанки. И какая прозрачность в этих тонких и вместе твердых чертах!.. Вся гордость андалузки состоит в ее удивительных руках и маленькой, узкой ножке, обутой в башмачок, едва охватывающий пальцы. Походка их обыкновенно медленна, движения живы, быстры и вместе томны. Эти крайности слиты в севильянках, как в опале цвета́ » {450} .
Описанию испанских женщин посвящены многие блистательные страницы в книге, нами разбираемой; читатель сам отыщет их и согласится с нашим отзывом. Мы же от севильянок должны перейти к испанской живописи, переход этот не так странен, как он кажется; ибо, по словам нашего автора, только побывав в Испании, посмотря на ее женщин, вполне поймешь колорит величайшего из мастеров испанской школы, Мурильо.
В Севилье находится собрание картин, в одной зале которого находится до шестнадцати произведений этого художника, и лучшей его манеры [137]. По словам автора «Писем об Испании», человек, не видавший картин Мурильо в самой Севилье, не испытал целого мира невыразимых и недоступных наслаждений. Мурильо все доступно: начиная от глубоких тайн души человеческой до вседневной жизни и самых прозаических сцен природы. Этот мастер, у которого пламенная сила и воздушность колорита слиты с деликатной нежностью фламандской отделки, есть истинный религиозный живописец в самом страстном значении этого слова.
Настоящая католическая живопись (здесь мы значительно сокращаем замечания г. Боткина) могла развиться лишь в одной Испании, под влиянием горячих страстей и пламенной, иногда фанатической религиозности. Предания античного искусства не проникали ее, как это было в Италии, к ней не примешивались игривые фантазии древнего мира, считавшиеся в отчизне Мурильо порождением дьявола. На два предмета лишь отзывались испанские художники — к природе и религии бросились они со всем вдохновением их огненной и могучей натуры. Портреты итальянцев и французов бледны пред портретами Веласкеса. В Мурильо воплотилась страстная, любящая, поэтическая сторона католицизма. Религиозность его пламенная и будто замирающая в восторге мистических видений, и в то же время не чуждая, не враждебная миру, нежная и любящая. Краски его — это природа со всею своей плотью и кровью, по проникнутая какою-то невыразимою идеальностию. В природе тени прозрачны, и именно своими тенями, проникнутыми светом, Мурильо превосходит всех колористов. Мистический сумрак облекает всегда его картины, но глаза свободно уходят в дальние их части. В этой кроткой, воздушной яркости света, в этом прозрачном мраке теней, в этой особенной, лишь одному Мурильо принадлежащей неопределенности контуров, сливающихся с воздухом, дышит какая-то преображенная, поэтическая жизнь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу