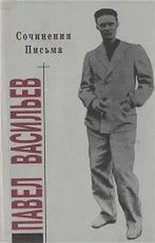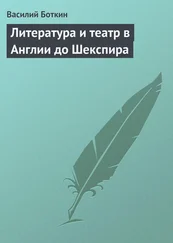Смотря на это состязание, подумаешь: неужели эти новые люди хотят переродить свет? Как разрушить то, что до сих пор составляло сущность и условие жизни, как идеальному миру их заменить очаровательную действительность настоящего! Это мечты энтузиастов: они рассеются, как эти сотни сект, наполнявших Грецию… Но в этих сотнях сект человечество училось понимать и сознавать себя, они служили буквами для великого слова; мысль явилась — слово выговорено… Прости теперь, нежная, светлая религия греков! Человек меняет светлый мир твой на мир таинственный, но великий; он бросает твои роскошные благовония, так сладко нежившие тело; бежит с твоих радостных празднеств, где чувства нежились в упоении; он бросает твой тирс и венки цветов: его венцы сплетены из терния.
Сначала Рим добродушно смотрит на великое таинство, совершающееся пред очами его. Какого царства хотят они? — спрашивает обладатель мира. Царства духа. Рим не понимает этого и спокойно записывает в своей летописи странное для него явление.
Проходят годы; древо новой жизни возрастает, под таинственную сень его толпами стремятся люди — и наконец с недоумением замечает Рим, что эта странная жажда мира невидимого точит корень его существования, разрушает гражданское устройство его. С удивлением рассматривает он нового противника: Рим не понимает, не знает оружия, которым сражается противник. Помогут ли тут мечи, когда он, слабый, беззащитный, с радостию дает убивать себя и, умирая, говорит о любви и вечной жизни! Взволновался Рим. Борьба кипит — необыкновенная, неслыханная, борьба величайшей силы с величайшею слабостью. Как тяжело прокладывает себе дорогу свет, возрождающий человечество, — тяжело, но он торжествует с каждым днем. Посмотрите же, как судорожно мечется древний мир, как умирает он. Напрасно уливаешь ты амфитеатры свои кровью христиан, напрасно скликаешь народ рукоплескать гибели их! Народ плещет, а выходит из театра в задумчивости: божественная тайна уже смутно предчувствуется им… Напрасно ты, изнуренный мир, утомясь, наконец, отворяешь противнику врата своего города, напрасно возводишь его на трон своих императоров {389} ; он неумолим: он разрушит тебя и прах твой развеет по земле…
Досадовать ли, дивиться ли, что нельзя здесь найти даже следов множества превосходных памятников древности, видя храмы ее перестроенными для другого назначения, украшенного обломками их древнего великолепия? Конечно, разрушение древнего мира было необходимым условием христианства; а в жаркой битве достанет ли внимания беречь прекрасное кольцо врага или драгоценный пояс его? Впоследствии невежество и время довершили остальное. Но для меня это повсюдное слияние язычества с христианством составляет дивное неописанное очарование Рима. Эта окаменелая вражда двух миров с неодолимою силою овладела умом моим. Уныло-таинственным взором смотрит она здесь в бесконечное будущее… Необыкновенное чувство объемлет душу, когда стоишь на этом рубеже двух миров, видя труп старого и уже дряхлеющую жизнь нового… Сколько торжественных, возвышающих ощущений проходит по душе, когда бродишь по Риму, по этому звену, которым соединило человечество две великие и только одни нам известные эпохи жизни своей!
Но и независимо от древностей своих Рим имеет свой особенный, глубокий характер, о котором не может дать ни малейшего понятия ни один из городов Европы. В этом отношении, мне кажется, Рим можно сравнить с поэтом или художником, у которого, среди самых простых явлений обыкновенной ежедневности, беспрестанно проблескивает этот неподражаемый взгляд на предметы, эта молниеносность мысли, невольно поражающие нас и заставляющие глубоко чувствовать или задумываться. Так в Риме: идете по узкой, нечистой улице — вдруг пред вами прекрасная площадь с знаменитым памятником; из сумрачного переулка выходишь к роскошнейшему фонтану. И эта беспрестанная неожиданность, с какою встречаешь здесь произведения искусства, кажется, еще более усиливает впечатление их. В день моего приезда сюда, бродя в сумерки по городу, — как изумился я, когда запачканная, узкая улица вывела меня на площадь и перед собою увидел я мост св. Ангела, по берегам бедного Тибра живописно толпящиеся домики в зелени кипарисов и акаций; влево вырезавшийся на вечернем розовом небе купол Петра и прямо — величественный памятник Адриана {390} , обращенный в замок св. Ангела. Но изумление мое было иное, когда на другой день из улицы вонючей, наполненной мясными лавками, пекарнями, мастерскими, вышел я к Ватикану. Передо мной была обширная площадь, обнятая колоннадою в четыре ряда: посреди египетский обелиск; по обеим сторонам ее густыми, снопами бьющие фонтаны. Длинные ряды колонн служили словно двумя колоссальными крылами храму, нежно, легко поднимающемуся над ними своим воздушным куполом. Впечатление было для меня тем необыкновеннее, что на площади ранним утром нет никого — тишина увеличивала торжественность впечатления. Вид очаровательный! После я не раз думал: отчего эта площадь так влечет меня к себе? Эти колонны очень обыкновенны, — да и к чему тянутся они? Фонтаны? В Риме есть лучше. Фасад церкви? Не скажу, чтоб очень нравился мне. Нет, очарование состоит в целом: эти разрозненные части, так, по-видимому, обыкновенные, если рассматривать их порознь, соединены между собою воздушною симпатиею, живут только общею жизнию и, разрозненные, умрут, утратят свое таинственное очарование; глаза, раз устремившиеся на них, не могут оторваться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу