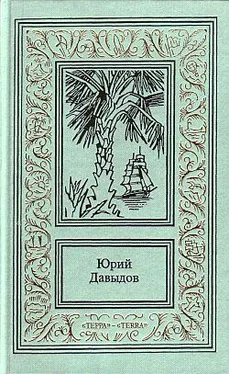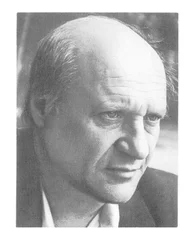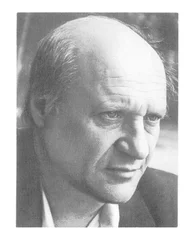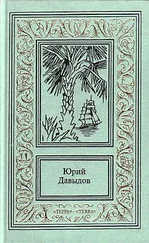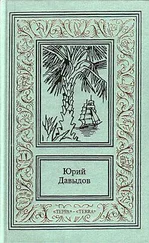Он и сам не знал, что его удерживает. Она подсказала, что нужно делать. «У вас матушка в Москве?» – «В Москве». – «Вы не видели ее…» – «Три года с лишним». – «И вам не совестно?» – «Совестно». И впрямь совестно. Но уехал он не только по этой причине. Уехал, чтобы решиться.
В Петербурге Матюшкин задержался дня на два в обычном своем петербургском пристанище – в гостинице Демута, на набережной Мойки, большой, старой, пропахшей нюхательным табаком и пылью.
Слуга нес его чемодан полутемным коридором. Из сумрака внезапно появился Пушкин: с резкими морщинами, заросший бакенбардами. У Федора дрогнул подбородок. Пушкин обнял Федора с коротким, похожим на всхлип выдохом и, не отпуская его руки, стремительно повлек к себе.
Комната Пушкина выходила окнами во двор. На дворе было мерзко, шел дождь, и в комнате тоже была холодная сиротливая полутьма.
Пушкин не спрашивал Федора, что он, как он. Пушкин прислонился спиной к голландской печке и сказал:
– Я видел Вилю.
Матюшкин знал, что Кюхельбекер после восстания на Сенатской площади бежал, скрывался, но вскоре был пойман. И вдруг: «Я видел Вилю». Федор сел, пристально вглядываясь в Александра. У Пушкина было желтое, как после тяжкой болезни, лицо.
– Когда? – едва слышно спросил Федор.
– Намедни. Я возвращался из деревни и дожидался лошадей в Залазах. Слышу бубенцы: тройки, фельдъегерь, арестанты. Я вышел взглянуть и… – Пушкин сложил руки крест-накрест, сунул ладони под мышки, словно его зазнобило. – И увидел Вилю. Он был во фризовой шинели, с черной бородою, исхудалый, бледный…– Пушкин откинул голову, прислонил затылок к изразцам и продолжал быстро, лихорадочно: – Мы бросились в объятия, жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательствами. Виле сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали…
Он зябко передернул плечами. Из глаз Федора потекли слезы. «Какая гиль, – подумал, злобясь на себя,– все эти мои заботы, колебания!..» Он обнял Пушкина, бережно усадил на диван, и они долго сидели рядом, прижавшись плечом друг к другу.
Что было делать в этой Северной Пальмире?
У Синего моста не шумел рылеевский «клоб». В доме Пущиных, на Мойке, не ждали больше милого Жанно. На Екатерингофском проспекте в казарме Гвардейского экипажа смолкли голоса вольнолюбцев. А на Галерной? Головнин отводил глаза, разговор у них с Федором не клеился.
Нечего ему было делать в этом Санкт-Петербурге…
Ямские лошадки звякали колокольцами на Московском тракте. Мокрые вороны каркали с голых деревьев.
Сосновые поленья трещали пороховым треском. Пахло шафраном. Портрет круглолицего, чуть курносого надворного советника, покойного батюшки. А рядом – маменькин. Сколько ей тут? Двадцать два, должно быть. Как ныне Ксении… Годы изживает в одиночестве. Много ль радости от сына? Навигатор, скиталец морей… Ну а какое ждет тебя море? В третий раз не угодишь в дальний вояж. Вот у Врангеля все по ранжиру: получил капитана первого ранга, женился в Ревеле на баронессе Россильон… Прехорошенькая, говорят… Отпросился на службу в Российско-Американскую компанию, укатил с молодой за океан, на остров Ситху. Отслужит пять годков да и воротится в любезную Эстляндию с немалой деньгой. А ты, братец, на лейтенантском коште еще насидишься. И добро бы при настоящем деле, а то ведь экипаж, фрунт, смотры. Тьфу, пропасть!..
Нет друзей. Обитал некогда у Чистых прудов Миша Яковлев – перебрался в Питер, повышаясь в чинах, согласно табели о рангах.
Поехать в собрание, на бал? Известно, Москва невестами красна. Кой черт в невестах?..
Неприметно, как в полудреме, текут недели. Кружат на дворе белые мухи, потрескивают дрова в печах. Напротив, в окнах Екатерининского института благородных девиц, мелькают быстрые тени. Эх, бедняжки затворницы!
Скука анафемская. Что же, однако, с тобой, Федор Федорович? Сидишь в вольтеровских креслах, книжка из рук валится, к бумаге и перу не тянет. Только и заботы, что табак переводить. Была Ксения… Смотри, брат, в Кронштадте-то вечера в Морском собрании с танцами, шарадами, шампанским. И какие туда альбатросы слетаются! Смотри, Федор, упустишь – не воротишь. Поцелуи – это тебе, брат, не воинская присяга. Уехать в Кронштадт? Жаль матушку. Как ехать? Сердце сыновнее есть иль нет? А впрочем, и в Кронштадт ехать не велика охота. Разбил тебя, Федор Федорович, душевный паралич…
А в канун пасхи пришло коротенькое, второпях писанное письмо Эразма Стогова. И в том письме – листок со стихами.
Читать дальше