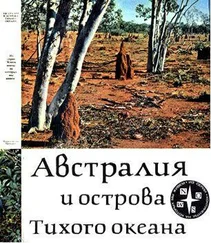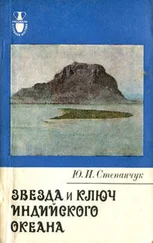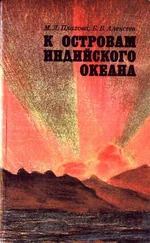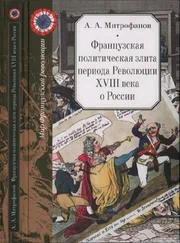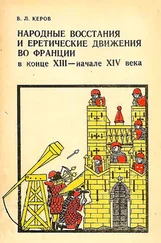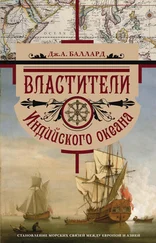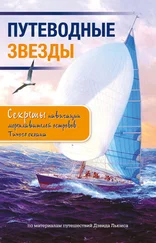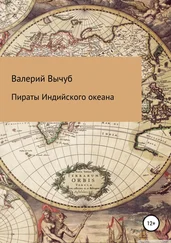Франция, пишет Аното в весьма осторожных выражениях, всегда стремилась выйти за пределы своих границ. Осуществляя это стремление в течение длительного времени, она исходила не из стремления к завоеваниям, а лишь из потребности изучения окружающего мира и его совершенствования. Тезис о колониализме как основе процветания нации уже не упоминается. Колонизаторы, по утверждению Аното, это люди, которые выполняют цивилизаторскую мисию /88, т.I, с.1/. Автор пишет о [4] «цивилизаторской экспансии» Франции в Европе и во всем мире еще в XVII и XVIII вв. По его мнению, принципом внешней политики Франции было «распространение справедливости среди цивилизованных народов, распространение цивилизации среди остальных народов». При этом проводники такой политики якобы всегда проявляли «мягкость нравов, радушное гостеприимство, уступчивость» и преследовали цели «повышения всеобщего благосостояния» и т.д. Характеристика, далекая от жестокой действительности колонизации.
Таким образом, если в предшествующие эпохи идеологи буржуазии открыто стремились показать выгоду колонизации для метрополии, то на рубеже 20–30-х годов нашего века они тщетно пытаются доказать обратное — благотворность колонизации для эксплуатируемых колониальных народов. В этих рассуждениях мы видим истоки неоколониалистских теорий, распространяемых в наши дни (см., например, /58/).
После второй мировой войны, в связи с подъемом национально-освободительного движения во всем мире, особенно участились попытки представить колонизацию как неизбежный элемент мировой истории, выгодный в итоге для завоеванного народа. Утверждения идеологов неоколониализма о неизбежности колониальных захватов связаны с попытками отождествить эти захваты с неизбежностью промышленного развития. «Колонизация, — заявляют участники одной из дискуссий, проходивших на Западе, — это историческая экспансия индустриальной цивилизации, вышедшей из исторически и географически определенных очагов... Деколонизация, следовательно, — это момент, когда максимум инициативы исходит из стран-преемниц (т.е. колониальных стран. — В.К.) и когда индустриальная цивилизация, а также способы мышления начинают принимать мировой характер» /74, с.27/. Иными словами, это — заявление о благотворности сначала колонизации «стран-преемниц» (скорее стран-жертв), приобщенных усилиями колонизаторов к промышленной цивилизации (что не всегда верно), а затем их деколонизации. Таково специфически классовое видение объективного процесса развития освободительного движения, скромно названного «инициативой». Р. Арон, один из авторов французской работы об Алжире, утверждает: «Колонизация соответствовала необходимой фазе, через которую должны были пройти слаборазвитые во всех [5] отношениях районы… Освобождение Алжира, несмотря на ослепление одних и фанатизм других, не было вызвано ни европейцами, ни мусульманами. Это неизбежное следствие исторического процесса» /58, с.78/; см. также /80/.
Как видим, даже неизбежность полной ликвидации колониальных режимов идеологи неоколониализма пытаются использовать для оправдания грабительской сущности колониальной политики. В этих же целях используется термин «взаимопроникновение цивилизаций». Для его автора, современного французского историка Э. Люти, сущностью колониальной политики империализма является лишь стремление сделать более прибыльными инвестиции, которые и обеспечивают «взаимопроникновение», рост «взаимозависимости метрополии и колоний» /96, с.82-87/. Поскольку для авторов, оправдывающих колониализм, ликвидация колониальных империй является не более чем одним из этапов приобщения слаборазвитых стран к «мировой цивилизации», то, по их мнению, деколонизация, сменяющая колонизацию, — это всего лишь ее завершающий этап /74, с.322/.
Разумеется, существуют и прогрессивные историки, которые критикуют колониализм как форму капиталистической эксплуатации завоеванных территорий.
Ж. Арно, в частности, анализируя действия французского империализма в своих колониях после второй мировой войны, пишет о 90 тыс. погибших жителей Мадагаскара, имея в виду жертвы подавления восстания 1947 г. /57, с.9-20/. (По различным оценкам, было убито от 50 до 100 тыс. человек.)
Общая концепция многих французских историков по вопросу о сущности колониализма определяла и определяет их отношение к колониальной политике французского абсолютизма. Так, Лавердан отмечает, что в XVII в. повсюду на карте были видны цвета Франции, что свидетельствовало о «приобщении варварских народов к цивилизации». «Франция, — с удовлетворением пишет автор, — была при Ришелье и Людовике XIV великой нацией» /94, с.15/. В духе откровенности, характерной для авторов XIX в., Ж. Шейе-Берт писал, что торговые компании (ХVII—XVIII вв.) не были лишь торговыми, «прежде всего и но существу это были компании для колонизации» /69, с.172/.
Читать дальше
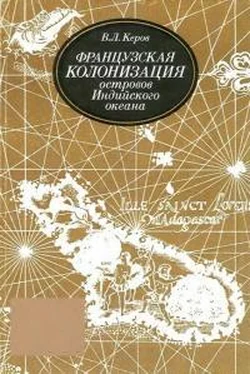
![Яков Свет - Одиссея поневоле [Необыкновенные приключения индейца Диего на островах моря-океана и в королевствах Кастильском и Арагонском]](/books/34241/yakov-svet-odisseya-ponevole-neobyknovennye-priklyucheniya-indejca-diego-na-ostrovah-mory-thumb.webp)