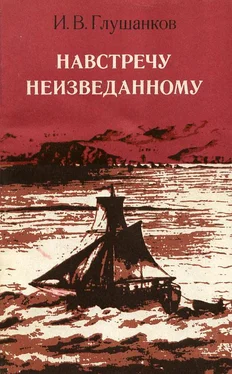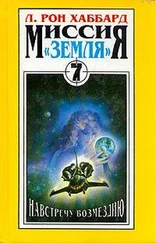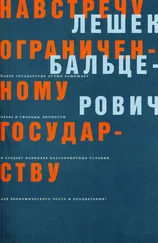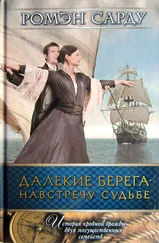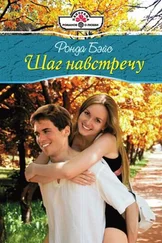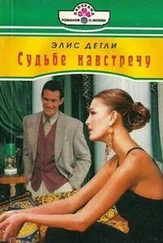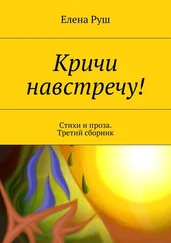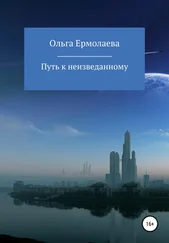В этой оживленной части Петербурга, походившей на предместье, так как центр города был на противоположной стороне Невы, жили только моряки, офицеры флота, рабочие и служащие Адмиралтейства.
Здесь все напоминало о флоте, даже названия улиц: Морская, Галерная и другие. Да и весь Петербург напоминал спущенный со стапелей новый корабль, на котором еще стучал топор мастера, подготавливающего его в большое плавание.
Первые занятия начали с изучения солдатских приемов с мушкетами. Ученики должны были уметь все, что полагалось уметь солдату и матросу.
В 7 часов утра все ученики маршировали под барабан во дворе, затем выделялся суточный наряд из восемнадцати человек и разводился по караулам, остальные шли в классы.
Днем и ночью каждый час вокруг академии «чинился рунд» (обход), а часовой, стоящий на посту у часов, отбивал склянки. В определенное время били «тапту» (зорю). После вечерней «тапты» по двору академии и вокруг нее ходил патруль из шести учеников во главе со старшим. Особое внимание обращалось на поведение учеников и дисциплину. Воспитанникам предписывалось «под страхом наказания» внимательно выполнять все «экзерциции», а во время занятий Петр Первый приказал «для унятия крика и бесчинства выбрать из гвардии отставных добрых солдат и быть им по человеку во всякой каморе (классе — И. Г.), во время учения иметь хлыст в руках; и буде кто из учеников станет безчинствовать, оных бить, несмотря какой бы он фамилии ни был…» За самовольные отлучки предписывалось строгое наказание, вплоть до ссылки на каторгу.
Содержанию обучения в академии Петр. Первый придавал первостепенное значение. Еще до открытия академии он передал Апраксину собственноручный указ и позднее утвердил Адмиралтейский регламент, где определялось: «Во Академии учить наукам: арифметике, геометрии с алгеброй, тригонометрии плоской, навигации плоской, навигации мерка то рекой, навигации круглой, ведению шканечного и навигацкого журнала, астрономии, географии, геодезии, артиллерии, фортификации, шанцам и ретранжаментам (полевой фортификации — И. Г.), апрошам (долговременной фортификации — И. Г.), черчению, толкованию корабельного гола (кораблеведение и корабельная архитектура — И. Г.) такелажным работам, рапирной науке, рисованию, экзерцициям солдатским с мушкетами». [12] Полное собрание законов Российской империи, I т VI № 3937, гл. I, п. 59
4. С января 1716 года малообеспеченным воспитанникам выдавали ежемесячно по 1 рублю и для поощрения учебы определили «как в геометрию вступят сверх вышеозначенного давать по полтине на месяц и того по полтора рубля, а когда в другие высшие науки вступят — прибавить, а именно в меркаторской навигации по два рубля с полтиною; в круглой навигации по три рубля человеку на месяц». [13] ЦГАВМФ, ф. 176. оп. 1, д. 100, лл. 70–70 об.
5. Вначале определенных сроков пребывания в академии не было, и наиболее способные и старательные оканчивали начальные и «высшие» науки в пять-шесть лет, менее способные — в восемь лет. Для упорядочения этого вопроса Адмиралтейская коллегия обратилась к учителям академии с просьбой сообщить их мнение о том, «в какое определенное им время могли ученики науки произойти?» Профессор Фархварсон и учитель Алфимов определили сроки обучения отдельным предметам: арифметике— год, геометрии — восемь месяцев, тригонометрии плоской — три месяца и так далее, а всего шесть лет и шесть месяцев. Скоро в дирекцию академии и школ пришло указание Адмиралтейств-коллегий, в котором говорилось: ежели кто из учеников академии «в такое время науки не примет, таких отсылать в матросы, чтоб под видом учения время не продолжали и жалования даром не брали». [14] Там же, ф. 212, оп. 1725, д. 25, лл. 78–79.
Кто же учил будущих исследователей России? Кто дал им те знания, благодаря которым они с честью выполнили обширные и весьма трудные задания экспедиции по описанию ранее неизвестных мест Сибири?
Полного ответа до настоящего времени не было. Всюду указывалось только, что учили их трое иноземцев и Магницкий, имея нескольких учителей и их помощников — подмастерьев. Последние архивные исследования автора дают ответ на этот вопрос и позволяют несколько подробнее рассказать о жизни академий.
К 1724 году учебный административный и хозяйственный штат Морской академии вместе с русской и цифирной школами состоял из ста человек. [15] Там же, оп. 1724, д. 29, лл. 86–95, д. 2, лл. 45–49.
В него входили профессора, учителя, подмастерья (помощники учителей — ассистенты), переводчики, заведующий хозяйством, служители типографии, инструментальные мастера, подлекарь, канцеляристы и другие служители. Большинство из них ранее окончили Московскую навигацкую школу. Переведенный из Москвы профессор Андрей Данилович Фархварсон преподавал математические науки и астрономию, Стефан Гвин, профессор, учил навигации, Федор Дмитриевич Алфимов, учитель, «обучал Евклидовым элементам и главные навигацкие науки преподавал». После учебы в Навигацкой школе Алфимов некоторое время находился на практике за границей. Талантливый ученый, он часто замещал Фархварсона, участвовал в составлении учебных программ, учебников и различных астрономических и математических таблиц.
Читать дальше