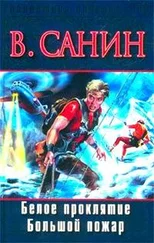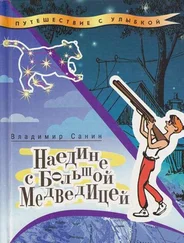– Особенно если обозвать его индюком или развеселым верблюдом, – не выдержал я.
– Правильно, Паша, вот что значит профессиональная наблюдательность! – восторженно подхватил Чернышев. – Абсолютно недопустимые вещи, как услышишь подобное – сразу ко мне! Ладно, вас, ребята, конечно, интересует, что я подслушал под вашей дверью. Сразу оговорюсь, – Чернышев поднял кверху палец, – невольно, но с большим интересом и даже глубоким сочувствием. Первая мысль: а как бы я сам себя чувствовал, если б меня отдали под начало, скажем, Птахи? Да я бы на стенку полез! Так и вам, должно быть, неприятно и унизительно плавать под началом капитана, стыдно сказать, без ученой степени! И, осознав это, я тут же, не сходя с места, сложил бы с себя полномочия, если б не одна подспудная мысль: ни хрена вы пока что в обледенении судов не понимаете. Оверкиль модели в бассейне, Виктор Сергеич, так же похож на оверкиль в море, как вот этот спитой чай на изъятый у вас коньяк. И дай вам волю, вы сослепу такого наколобродите, что сами за варягами побежите. Не скажу, что вам здорово повезло с начальником экспедиции, но раз уж бог или черт связал нас одной веревочкой, скрипите зубами и терпите.
– Вот это другое дело! – с живостью воскликнул Корсаков. – Этак мы с вами до чего-нибудь и договоримся. В одном лучше разбираетесь вы, в другом мы… Главное – установить полное взаимопонимание, воз у нас, в конце концов, один, и тащить его мы должны вместе и в одну сторону. Однако не скрою, некоторые ваши действия вызывают столь решительный протест, что я, простите за откровенность, даже подумал, не пора ли выйти из игры.
– Какие действия? – порывисто спросил Чернышев.
– Пожалуйста, перечислю. Над экспериментом профессора Баландина с порошком вы изволили в открытую посмеяться – это раз; предложенную Ерофеевым формулу определения количества льда на судне обозвали шаманством – это два; проводившиеся лабораторные испытания квалифицировали как цирковой трюк – это три; оскорбительные клички – четыре. Если обидел, извините великодушно.
– Извиним его, Паша? – Чернышев подмигнул, – Только зря лукавите, Виктор Сергеич, мы-то с вами знаем, что из игры выходить вы никак не намерены, поскольку сие не входит в ваши планы… Это раз. Баландина я предупреждал, что затея с порошком пустая, непременно смоет его в море – два. Формула Ерофеева слишком громоздкая, пока по ней определишь количество льда, судно утонет – три. Насчет циркового трюка – не очень, согласен, удачная шутка, высказанная, однако, наедине, – четыре. Что же касается кличек, то перед Пашей я извинился, а за экипаж не волнуйтесь, мои ребята сами за себя постоят. Удовлетворены?
– Не совсем. – Корсаков, как мне показалось, был слегка озадачен. – Я прошу нас подумать вот о чем, Алексей Архипыч. Не веревочкой мы связаны, а одной цепью скованы, извините за высокий штиль. Но о каком взаимопонимании может идти речь, когда люди от вас шарахаются? Если вынужденное безделье так влияет на ваше настроение…
– А, бросьте эти дамские штучки. – Чернышев скривился, встал. – Шарахаются… безделье… настроение… Но девочки. Значит, дела такие: получено штормовое предупреждение, к ночи тряхнет. Приглашайте после ужина науку, обсудим, как и что.
– Какое ожидается волнение? – спросил Корсаков.
– Баллов девять, и ветер норд-вест, то, что надо, – ответил Чернышев. – Материковые ветры здесь самые холодные. Готовься, Паша, материальчик тебе в руки плывет, строк на тысячу!
Чернышев ухмыльнулся, пошел к двери, но вдруг остановился и как-то странно на нас посмотрел.
– А настроение действительно хреновое, – сказал он. – SOS перехватили. В ста пятидесяти милях обледенел и перевернулся японский траулер.
Я уединился в каюте и заполнял блокнот. Завидую людям с хорошей памятью! Грише Саутину и записывать ничего не надо – через год почти слово в слово воспроизведет любой слышанный им разговор. Я же на память не надеюсь, она у меня посредственная: не запишу – на другой день половину забуду, не смысл разговора, конечно, а нюансы, словечки, от которых и зависит та неуловимая вещь, именуемая художественным впечатлением. А иной раз часами мучаюсь, пытаясь вспомнить кем-то рассказанный и намертво ускользнувший из памяти случай: какой сюжет пропал! Но записывать на людях никак не могу, что-то в этом есть неделикатное, губящее всякую живость, непринужденность общения иной раз, самой жизнью режиссируемая, развертывается перед тобой сцена высокого накала, страсти кипят, характеры сшибаются, а ты, счастливый свидетель, весь в напряжении хотя бы смысла не упустить, доподлинно зная, что бесценные детали наверняка от тебя уплывут. И такое страдание из-за этого испытываешь, какое бывает только во сне, когда мимо тебя проходит счастье, а ты в беспричинной скованности не в силах протянуть к нему руку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу