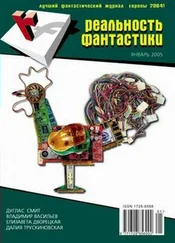Алла Гореликова
Кто найдет, того и будет
Два года назад — или три? Время спуталось, смешалось, то несется, то тянется, и трудно поверить, что недавно — просто жили…
Конфетная фольга под зеленым осколком бутылочного стекла.
Зеленые Тонькины глазищи под жидкой белобрысой челкой.
— Вот. Просто ты найти должен. А я — твою.
Игорь вертит в пальцах свой осколок. Коричневый. Долго такой искал: большей частью бесцветные попадаются, ну, еще зеленые, пореже. Отмыл — аж сверкает, и так здорово глядеть сквозь него на небо. Странные игры в Тонькином дворе. Глупо верить в такую чушь. Но — пускай. Раз Тонька хочет…
— Ладно. Давай, сделаю.
Тонька достает из кармана аккуратно свернутый фантик. С фольгой.
— Только знаешь, Тонь, — Игорь продирается через кусты сирени в глубину палисадника, сухой веткой рыхлит землю между змеистыми корневищами желтых ирисов. — Если я хочу, чтоб ты нашла, зачем же я от тебя прятать буду?
Фантик, фольгой вверх, аккуратно укладывается в ямку. Игорь, задержав дыхание, колет палец острым краем своего осколка. Капелька крови расползается по стеклу.
— Что говорить?
Тонька подсказывает скороговоркой:
— Кто найдет, заберет, твое сердце возьмет, навеки спрячет…
Стеклышко вжимает фольгу в землю, ложится плотно — как тут и было, давно, с самого начала Земли. Заблудившийся в сирени ранний солнечный луч дробится карими искорками. Тонька садится на корточки, худые пальцы с обгрызенными ногтями торопливо расширяют ямку рядом с коричневым окошком. Ойкает, добыв капельку крови. Зеленое стеклышко тулится к коричневому. Тоньке хочется прикоснуться к Игорю. Но она, быстро-быстро повторяя затверженный наговор, присыпает тайничок землей, разравнивает, нагребает сверху прошлогодней листвы.
— Помни, это секрет.
Игорь пожимает плечами. Пусть будет секрет, раз Тоньке хочется. Ради того, что считаешь пустяком, не станешь подниматься на рассвете.
Когда ветер южный, до города долетает канонада. С каждым днем — все громче. Когда ветер северный, канонады почти не слышно, но город затягивается едким дымом: на станции который день догорают склады. Тушить некому. От станции, говорят, осталась груда кирпича и месиво железок. Уехать из города теперь нельзя, кто не успел, тот опоздал. Некоторые, правда, уходят пешком. Катят нагруженные пожитками тачки, детские коляски, велосипеды…
Тонькина мать, глядя на беженцев, поджимает губы. Цедит:
— Глупо.
А почему глупо — не объясняет.
Тонька теперь встает до света. У нее расписание: понедельник, среда, пятница — булочник, вторник и суббота — молочник, а четверг — бакалея. Везде очереди. Мать задерживается в госпитале допоздна, а то и на ночь остается. Ей не до магазинов, да и не до Тоньки. Но зато их там кормят, и продукты из материной пайки Тонька складывает про запас. Бабульки в очередях утверждают, что пайку вот-вот урежут.
Иногда Тонька сворачивает в палисадник, разгребает рыхлую землю между корневищами ирисов и всматривается в карие искорки. Совсем как его глаза. Ты живой, я знаю, думает Тонька. Торопливо разравнивает землю над тайничком и бежит дальше.
Когда мальчишек собирают рыть окопы, это нормально: каждая пара рук пригодится. Но когда потом им раздают винтовки — задумаешься.
И если в мысли твои прокрадется хоть капля оптимизма — все с тобой ясно: в голове или солома или пропаганда. Оба случая — неизлечимы.
Игорю нет дела до пропаганды. Свои мозги на месте, да и глаза тоже. Видно же, сколько на спешно отрытых позициях бойцов, а сколько ополченцев. И — каких ополченцев. Но…
Можно плевать на пропаганду, на ежевечерние политинформации, даже на высокопарное «Долг перед Родиной». И все-таки упереться в этом тесном, тобою же вырытом окопчике, врасти в него, вцепиться в землю — и стрелять, пока остаются патроны. А потом — подняться и пойти вслед за надоевшим до оскомины политруком в безнадежную штыковую. Потому что ты помнишь зеленые Тонькины глазищи под белобрысой челкой, худые пальцы с обгрызенными ногтями, глупую дворовую скороговорку: «Кто найдет-заберет, твое сердце возьмет…»
Смешно верить, но — пусть. Так легче. Два ярких фантика, два стеклышка, две капельки крови. Две души, две жизни. Одна любовь.
Глупо, но — пусть. Пускай будет именно это слово. Любовь. Так легче.
День выдается безветренный. И — беззвучный. Опустившуюся на город тишину разбивает лишь топот сапог. Тонька смотрит сквозь щелку в шторах на солдат в чужой черной форме, пока мать не оттаскивает от окна силой.
Читать дальше