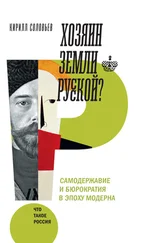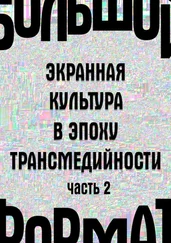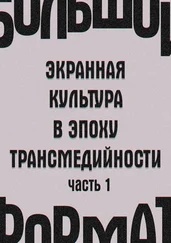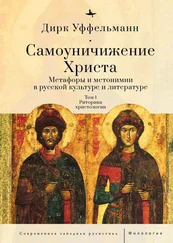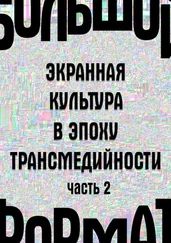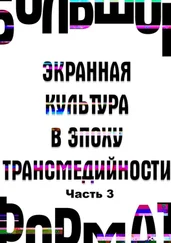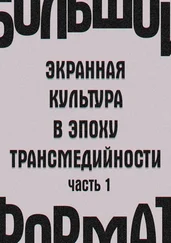С другой стороны, индивид обладает свободой хотя и не отвергать полностью того, что ему предназначено, но все же временно этого не желать. Общее направление усилия не избирается произвольно или по свободному решению, но отнюдь не исключено, что,
поскольку для доведения этого усилия до полноты необходимо время, оно может быть ослаблено и даже изменено новым представлением или склонностью, которое его затемняет, отвращает от него ум и даже заставляет иногда составлять противоположное суждение [100] Ibid., § 311, S. 316.
.
Таким образом, обусловленность воли не предполагает, по Лейбницу, непосредственного давления, которое бы принципиально отрицало свободу; скорее она вызывает склонность, склоняет, но не принуждает («incliner sans necessiter» [101] Ibid. § 288, S. 303.
) к необходимости, «поскольку быть чем-либо определенным есть нечто иное, чем быть вынужденным или испытывать насилие» [102] Leibniz: Abhandlung II, 21, § 13; hg. Cassirer, S. 154.
. Аспект предустановленной гармонии, благодаря которому возникает склонность к необходимости, Лейбниц именует « принципом справедливости », заключающемся в том, что «добродетель и порок сами несут в себе свое вознаграждение и наказание в силу естественного порядка вещей» [103] Leibniz: Theodicee, § 74, S. 136.
.
Свобода индивида состоит, следовательно, в том, что необходимость, обусловленную порядком вещей в мире, он может осознавать как находящуюся в большем или меньшем соответствии с его собственной волей или интерпретировать как выражение собственной воли. Однако полная гармония между волением и долженствованием все же не возникает, так как:
только божественная воля всегда руководит суждениями разума, все же мыслящие создания находятся во власти каких-либо страстей, или по крайней мере не всецело руководствуются такими представлениями, которые я называю адекватными идеями [104] Ibid. § 310, S. 315.
.
Это суждение может быть понято как ограничение индивидуальной воли, но оно же может вместе с тем и служить обоснованием самых крайних притязаний индивида на обладание свободой воли – если извлечь его из контекста лейбницевой метафизики. Дело в том, что учение о предустановленной гармонии имплицирует не только подвластность индивида необходимости исполнять свое предназначение, но и его право неукоснительно требовать осуществления того, что диктует ему внутренний закон именно его собственной личности. Согласно этому требованию учение об ответственности за свои действия приобретает еще один, совершенно новый аспект: к этическим императивам, ориентированным на человека вообще, как родовое существо, и вообще ко всем сверхиндивидуальным нормам, как, например, нормам кодифицированного общественного права, добавляется новая руководящая человеческими поступками и к ним обязывающая инстанция – закон индивидуального предопределения.
В мире лейбницевой предустановленной гармонии эта двойственность остается чисто логической и не влечет за собой больших последствий. Но когда метафизическое обоснование мировой гармонией отпадает, это удвоение обязывающей инстанции, которая, с одной стороны, стремится ограничить индивидуальность, требуя ее подчинения всеобщему благу, а, с другой, оправдывает осуществление индивидуального предназначения, становится жгучей проблемой, которую философия позднего Просвещения ставит во всей ее остроте. К этой проблеме мы еще вернемся в связи с анализом «Вертера» [105] См. ниже, раздел Проблема Вертера ( 2 )
.
Следует, однако, подчеркнуть, что как бы не обосновывался индивидуальный закон, сама тенденция к его соблюдению сохраняет свое значение на всем протяжении эпохи модернизма, и тогда, когда вера в метафизическую гармонию, способную примирить все разнообразие индивидуальных предназначений, уже рушится.
I. Индивидуальность абсолютизированного Я
Логическим следствием обоснованной Лейбницем претензии каждой монады следовать своему собственному внутреннему закону становится предположение, что каждый индивид должен обладать свободой для того, чтобы эту претензию реализовать. Там, где полагается Я как носитель внутреннего предназначения, должна полагаться и свобода его самореализации. У Лейбница источник этой свободы переносится из области внешнего господства во внутренний мир личности, в «interiorem hominem»; в этом заключается мировоззренческий переворот, характеризующий переход к Новому времени.
Читать дальше