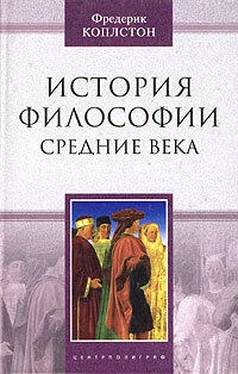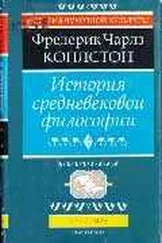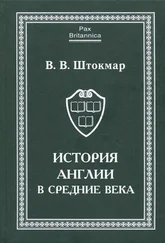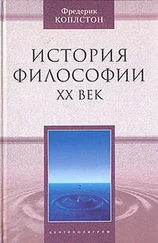В одном смысле средневековые философы являются сложившимися авторами. Они пытались адекватно выразить то, что имели в виду. Может показаться, что сочинениям недостает глубины, если, конечно, считать глубину и туманность изложения синонимами. Однако вряд ли можно поставить им в вину многословие и нелепость мысли, замену точных определений многозначными метафорами и красочными описаниями. По сравнению с некоторыми поздними философами их мысль ясно выражается в неприхотливой манере, определенно и лаконично.
Современные студенты, изучающие средневековую философию, похоже, сталкиваются со значительными трудностями, связанными с пониманием ее основных терминов. Я не имею в виду применение латинизмов. Проблемы, связанные с иноязычной терминологией, неизбежны при переводе. В этой книге была сделана попытка по возможности ее упростить. Однако здесь необходимо сделать некоторые предварительные пояснения. Во-первых, желательно некоторое знакомство с греческой философией, в особенности с учением Аристотеля, хотя, конечно, можно было бы ограничиться объяснениями значений специальных терминов. Для примера, студент, изучающий средневековую философию, должен понимать значение термина «материя», используемого Аристотелем в смысле «первоматерия». В противном случае он может быть введен в заблуждение утверждением, что материя не существует сама по себе, и вообразить, что здесь излагается некая форма идеализма [7] Данное утверждение означает, что «материя» никогда не существует сама по себе, для ее осуществления необходима «форма» или умопостигаемая структура, которые делают некую вещь вещью определенного рода.
.
Во-вторых, мы должны принять во внимание, что некоторые понятия употребляются средневековым писателем не в том значении, в котором они используются сейчас. Например, латинское слово «species» в одном контексте может употребляться для обозначения того, что мы определяем как вид и род. Но в другом контексте оно должно пониматься как видоизменение ума или идея. Кроме этого, в одном контексте слово «благое» может применяться в том смысле, когда хорошие поступки противопоставляются дурным как этическое понятие. В другом случае данный термин может использоваться в онтологическом смысле, будучи прилагаемым ко всему, что имеет какое-либо отношение к желанию, склонности или воле. Другим примером, о котором уже шла речь, является слово «наука» (scientia). Сегодня оно используется главным образом по отношению к естественным наукам, впрочем также и к социальным. Однако когда средневековый философ в беседе употреблял слово «наука», то имел в виду группу суждений, которые являются истинными, так как вытекают из общих для них принципов, истинность которых либо самоочевидна, либо основывается на принципах, принятых более высокой наукой [8] С субъективной точки зрения термин «наука» подразумевает знания об истинности такой группы высказываний.
. Таким образом, согласно Фоме Аквинскому, метафизика является наукой, поскольку ее начальные принципы являются самоочевидно истинными [9] Можно предположить, что для Фомы Аквинского в целом содержание метафизики может быть выведено а priori из суждений, истинность которых самоочевидна. Но, как мы увидим в дальнейшем, в действительности он мыслил метафизику иначе.
, в то время как теология также является наукой по той причине, что ее начальные принципы или предельные принципы даны в откровении, а их истинность обеспечивается самим божественным знанием [10] Попытка вписать теологию в аристотелевскую идею «науки» открыта для критики. Однако приведенная точка зрения состоит в том, что для средневековых мыслителей христианское богословие было высшей из наук, тогда как для нас под наукой подразумеваются естественные науки, если, правда, она не определяется как «социальная». И конечно, естественные науки могут служить примером аристотелевского понимания науки.
.
Чтобы понять средневековых философов, необходимы усилия, чтобы постичь язык, на котором они говорят, овладеть техническим словарем, специфическим знанием слов, взятых из обыденного словаря. Конечно же подобная ситуация не является исключительной. Так, знакомясь с Кантом, мы также должны изучить значения технических терминов, таких, как «трансцендентальная аналитика», которые, естественно, не являются обыденными словами. У таких авторов, как Локк и Беркли, мы не столкнемся с необходимостью изучать значения технических терминов. Но мы будем вынуждены разгадывать специальные назначения обычных слов, таких, как «идея». Свой собственный словарь есть у Мартина Хайдеггера. Даже Джон Остин, который видит мало пользы в лингвистической изощренности, ввел несколько неологизмов, чтобы с их помощью выразить свою мысль.
Читать дальше