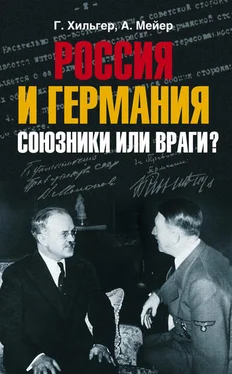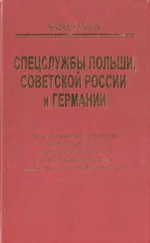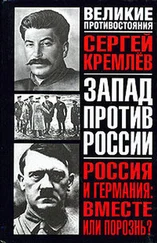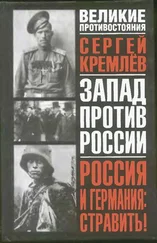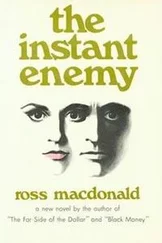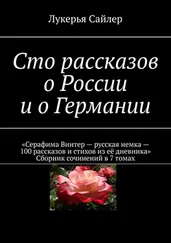Для большевиков ситуация была очень тревожной. Им приходилось считаться с возможностью того, что германское правительство воспользуется убийством своего дипломатического представителя в качестве предлога для нового объявления войны… (Не было никакой тревоги – см. примечания ранее. – Ред )
Восстание, разразившееся в ночь с 6 на 7 июля, явилось серьезным испытанием для молодого Советского государства. Мятежники ранее обеспечили для себя ряд ключевых позиций в ЧК. Они арестовали Дзержинского, который проявил незаурядное личное мужество, отправившись в штаб левых эсеров, где его продержали ночь в качестве пленника (сейчас, когда открылись секретные документы, вырисовывается иная картина – Дзержинский сделал вид, что его арестовали. – Ред.). Сам Ленин едва смог избегнуть той же участи. (Из области сказок. Ленин, отлично обо всем осведомленный, был весел и шутил: «Что делать с ними? Отправить в больницу для душевнобольных? Дать Марии Спиридоновой брому? Что делать с этими ребятами?» – Ред.) Но у мятежников было недостаточно сил, а организация действий была слишком плоха, чтобы устоять перед большевиками. Фанатизм эсеровских террористов не мог сравниться с решимостью партии, только что захватившей власть в России.
Этот мятеж левых эсеров стал самой организованной и спланированной (в ЧК. – Ред.) попыткой из всех, когда-либо предпринимавшихся для свержения коммунистического режима изнутри. Условия для успеха казались самыми благоприятными. Был выбран момент, когда власть еще не успела консолидироваться в нечто похожее на монолитный тоталитаризм нынешнего режима. Кроме того, в то время подрывная деятельность в Советской республике все еще поддерживалась с помощью денег и агентов иностранных посольств, в основном враждебных друг другу, но единых в своей оппозиции режиму. Несмотря на эти благоприятные обстоятельства, восстание ожидал полный провал, подтверждая тем самым хорошо известный аргумент, что никакая революция не способна свергнуть современный тоталитарный режим изнутри. Не имея шансов на успех, сегодня при таком режиме невозможно вообще начать какое-либо подрывное движение (то, что произошло с СССР, опровергает это утверждение – совместные усилия верхушки партии, КГБ и других привели к его ликвидации. – Ред.).
Тем не менее замешательство, вызванное убийством Мирбаха и мятежом, позволило двум убийцам бежать из Москвы той же ночью и тем самым ускользнуть от задержания и возможной казни. Поэтому, если им и удалось избежать наказания, на котором продолжало настаивать германское правительство, советское правительство нельзя было обвинить в отсутствии стремления удовлетворить это требование. Напротив, по иронии судьбы убийцы нашли убежище не в той части России, которая находилась под властью большевиков, а на Украине, в зоне германской оккупации. (Академия Генерального штаба РККА, на восточное отделение которой в сентябре 1920 года Блюмкин был зачислен по направлению Наркоминдела. – Ред.) Их последующая судьба известна. Андреев пал жертвой эпидемии тифа, свирепствовавшего на Украине в 1919 году. После разгрома Германии Блюмкин воспользовался амнистией, которую объявило советское правительство. В 1920 году он уже опять был в Москве в качестве слушателя Военной академии Красной армии. В свободное время он публично разглагольствовал, что якобы убил графа Мирбаха. Поскольку его сообщника уже не было в живых, никто в конце концов не мог оспаривать его «славу».
Я известил барона фон Мальцана, бывшего в то время главой Русского отдела германского министерства иностранных дел, о поведении Блюмкина, но избрал форму личного письма, чтобы дать ему возможность воздержаться от каких-либо официальных шагов, если он посчитает, что это будет более уместно. Барон ответил, что решил не заявлять никаких протестов против действий Блюмкина, чтобы не повредить советско-германскому сближению, которое было тогда в своей начальной стадии. Из-за такого мягкого отношения Блюмкин оставался в Москве еще в течение многих лет. Одним из наиболее часто посещаемых им мест был Клуб литературы и искусства, в который тогдашний народный комиссар просвещения А.В. Луначарский обычно приглашал известных иностранцев. Представьте себе ужас и беспомощность какого-то германского политика, которому Луначарский однажды показал на Блюмкина, задав при этом бестактный вопрос: «Не хотели бы вы встретиться с человеком, который застрелил вашего посланника?» [2] В 1929 году Блюмкин беспечно навестил Троцкого, находившегося тогда в изгнании. За это он поплатился своей жизнью после возвращения в Советский Союз. (Блюмкин взялся доставить несколько писем Троцкого его сподвижникам, был арестован (по доносу Радека) и расстрелян «за повторную измену делу пролетарской революции и советской власти и за измену чекистской армии». – Ред.)
Читать дальше