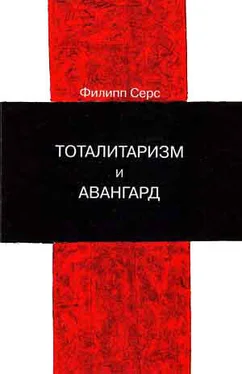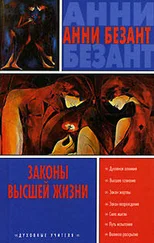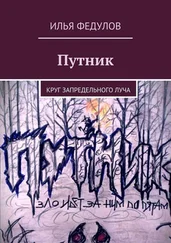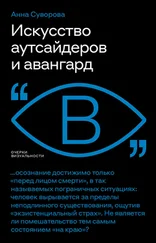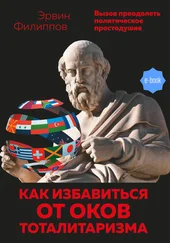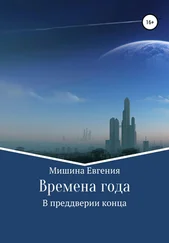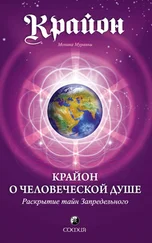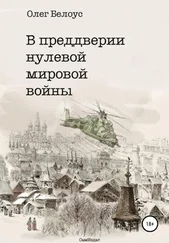Живописная абстракция – это реакция на привычку наделять образ незавидной ролью зрительной обманки или сводить его к ничтожному субпродукту речевого высказывания. Абстрактный проект ставит своей целью достижение ноумена внутри и посредством образа. Для первых абстракционистов – Кандинского, Мондриана или Малевича – образ, воспринятый в самодостаточной строгости, а не через прежнее соотнесение с внешней дискурсивной моделью, наделен достоинством непосредственного познания. Теперь он способен выражать реалии, с которыми связан сопричастностью: одной из его функций как раз и становится своего рода вызывание реальности. Задача состоит в изобретении нового языка, который дадаисты назовут Paradiessprache: языка «райского», поствавилонского, поскольку вавилонское смешение языков, по библейской традиции, прервало для человека череду райского именования, привилегию Адама, которую разделяли с ним первые люди.
Во-вторых, благодаря абстракционистской революции мир авангарда открывает для себя то единство поэзии и живописи, которое уже давно с блеском выявила восточная традиция. Здесь можно вспомнить, например, высказывание Су Дунпо о Ван Вэе: «Каждая из его картин – точно поэма; каждое его стихотворение – целая картина». Революции в живописи и в поэзии с самого начала дышат одним воздухом. «Заумь» русских авангардистов – поэзия, выходящая за пределы интеллекта, – по своим устремлениям близка к той «поэзии», о которой будут говорить Да-да или сюрреалисты и которую они противопоставят «литературе», то есть дискурсу описательному. Поэтическое слово становится для его автора местом внутреннего события, способом непосредственного и немедленного переживания, а также конкретизацией этого опыта как следа неуловимого, но несомненного знания.
Заумное в авангардной поэзии – аналог за-предельного для зрения в абстрактной живописи. Это прорыв за пределы возможностей человека, попытка найти некий предмет знания, который обычные пути постижения оставляют в стороне. Согласно учению китайской философии, искусство тем самым приходит к своей высшей функции, позволяя индивиду в полной мере реализовать собственную человеческую природу, становясь при этом для мира завершающим этапом в созидании исконной гармонии.
Вместе с тем одной из отличительных черт этой революции становится ее мгновенное распространение на все виды искусства, и прежде всего на искусства синтетические – сценографию и архитектуру. Синтез искусств – основное устремление первоначального авангарда. Этот синтез пытается объединить различные способы выражения в некое органическое целое. Он предстает своего рода композицией композиций. Тем самым он становится испытанием для новых элементов, появляющихся в различных искусствах, – теперь они должны обладать способностью сочетаться, сливаться в единое целое. Синтез испытывает их на прочность: сопоставляя различные виды искусств, он объединяет их внутри единой проблематики репрезентации, где они неизбежно сталкиваются с вопросом содержания – в чем нам предстоит убедиться ниже.
В области архитектуры авангардная революция обыкновенно представляется как борьба функционализма с украшательством. Подобная оценка опирается на знаменитую присказку, согласно которой форма следует за функцией. Однако это утверждение на самом деле ни о чем нам не говорит, поскольку авангардные преобразования в архитектуре затрагивают функциональную сторону ровно в той же степени, что и формальную. Ставя акцент на декоративности и на взаимоотношениях формы и функции, мы отдаем предпочтение формалистическому прочтению новой архитектуры, довольствуясь выявлением той архитектурной логики, которая должна привести нас к новому стилю. Остальные вопросы и соображения остаются без ответа, поскольку мы говорим о «международном» стиле: том самом «современном», «модерном» (moderne) стиле, определять который должна новейшая (contemporaine) теория.
Однако с проблемой стиля мы привносим в архитектурную теорию первоначального авангарда нечто инородное. Самый глубокий и, возможно, самый влиятельный теоретик авангарда этих первых лет, Тео ван Дусбург, неоднократно подчеркивал, что модерность новейшего времени не обладает никаким стилем, тем более новым. Понятие стиля само по себе противоречит принципам той революции, к которой хотят прийти модернисты (les modernes).
На начальном этапе развития новой архитектуры мы наблюдаем феномен, как раз обратный формированию стиля, а именно – открытие внутреннего, его эвристической ценности. Внутреннее против стиля: скорее именно в этом состоит смысл существования, рабочая гипотеза новой архитектуры. Для нее характерен сдвиг к невещественному. Этот поворот выражается прежде всего в экономии средств – или, иными словами, осознании того, что исходный материал обладает некоторым внутренним значением, соответствием окружающему миру, собственной природой, которые следует принимать в расчет прежде его технических характеристик. Так, для своего «Памятника Третьему Интернационалу», замышлявшегося как египетская пирамида новых времен, Владимир Татлин выбирает стекло и сталь – материалы прометеевские, рожденные в огне, – для того, чтобы продемонстрировать мощь появляющейся на свет цивилизации. Поворот к невещественному выражается также в большем внимании к свету. Реальность новой архитектуры, какой представляли ее себе первопроходцы, составляет уже не бездвижная масса, но активное пространство: в результате архитекторы выдвигают на передний план световую динамику и взаимопроникновение пространств; неподвижные элементы исчезают, уступая место мобильным перегородкам или занавесям. С другой стороны, взаимоотношение внешнего облика и интерьеров здания становится более гибким, появляется понятие архитектурной траектории, отдающей предпочтение траектории движения, а не объекту как таковому (здесь явно сказываются уроки живописного кубизма). Мы становимся свидетелями настоящей духовной революции в архитектуре, методологически обусловленной открытиями абстрактного искусства.
Читать дальше