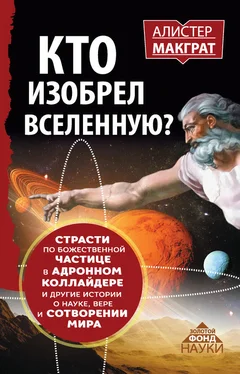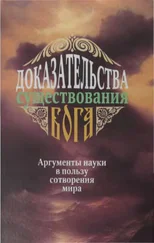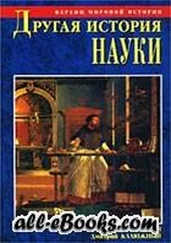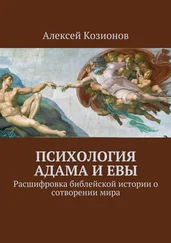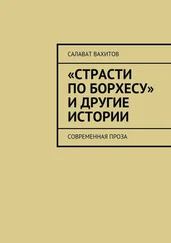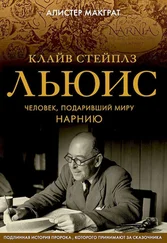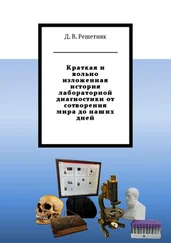Большинство читателей увидят, что все три пункта относятся и к религии. К первому и второму мы еще не раз вернемся. А как же третий? Как быть с ситуациями, когда что-то в религии не соответствует данным наблюдений? В Средние века богословы бились с вопросом о вечности мира. Тогдашняя наука говорила, что Вселенная была всегда, а вера учила, что она возникла в какой-то момент. Очевидная аномалия – и чтобы обойти ее, пришлось, в сущности, мириться с двоемыслием, поскольку доступные в то время научные методы не могли разрешить это противоречие. В конечном итоге наука отказалась от идеи вечности Вселенной и придерживается представлений, которые не тождественны религиозной идее сотворения мира, однако ничуть ей не противоречат.
Религия тоже должна работать с аномалиями. В случае христианства такой аномалией – по крайней мере, на первый взгляд – мне кажется существование страдания. Однако христианские теологи всех времен утверждали, что можно найти способ понимать страдание таким образом, чтобы уменьшить интеллектуальное бремя этой проблемы и помочь нам бороться с житейскими невзгодами.
Об этом еще есть что сказать, но нам нужно двигаться дальше и обсудить место данных и доказательства в науке, а также несколько смежных вопросов.
Данные, доказательства и вера в науке
Доказывает ли наука свои теории? Распространенное заблуждение, которого и я когда-то придерживался, гласит, что ученые – люди сверхрациональные и принимают только то, что можно доказать на основании данных. Как и во всех распространенных заблуждениях, здесь есть доля правды. Наука и есть поиск лучшего объяснения наблюдений. Но доказать, что какая-то теория лучше всех, часто бывает трудно, особенно потому, что никак не удается добиться согласия по поводу критериев: простота? Изящество? Доступность? Плодотворность? Впрочем, главное очевидно: наука делает ставку на обоснованные убеждения, полученные в результате публичных обсуждений вопроса о том, какое толкование общедоступных данных считать наилучшим.
Тут философ вправе возразить, что мы говорим о науке и доказательстве как-то слишком вольно, и указать, что в строгом смысле слово «доказательство» применимо лишь к логике и математике. Мы можем доказать, что 2 + 2 = 4 и что «часть меньше целого». Что ж, справедливо. Но все же вполне можно выразиться и так: наука дает нам полные основания верить, что те или иные положения истинны, например что химическая формула воды – Н 2О или что среднее расстояние от Земли до Луны – примерно 384 500 километров.
Вспомним уже приводившиеся слова Ричарда Докинза о вере: «Если бы имелись надежные доказательства, то вера как таковая была бы излишней, так как эти доказательства убеждали бы нас сами по себе». Безо всяких сомнений замечу, что надежные свидетельства заставляют меня верить, что формула воды Н 2О и что до Луны в среднем 384 500 километров. Просто Докинз путает «полное отсутствие подтверждающих данных» и «отсутствие полностью подтверждающих данных». Данные, как знает любой практикующий ученый, могут быть неоднозначными, уводить в разные стороны и допускать разные толкования.
Яркий пример – нынешние споры космологов о том, сколько Вселенных породил Большой взрыв – одну или много (множественную Вселенную) [100] Сборник статей ведущих исследователей, излагающих разные точки зрения по этому поводу, – Bernard Carr (ed.) , «Universe or Multiverse?» Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
. Я знаю многих выдающихся ученых, поддерживающих первый вариант, и многих не менее выдающихся ученых – сторонников второго. И те и другие, бесспорно, мыслящие и осведомленные специалисты, принимают решения на основе того, как, по их мнению, лучше всего толковать данные, и верят – хотя и не могут доказать – что их толкование истинно.
Подобная дилемма отнюдь не нова. Это неотъемлемая часть научной деятельности. С похожей проблемой столкнулся Чарльз Дарвин, когда разрабатывал теорию естественного отбора. Чтобы окончательно и бесповоротно убедиться в ее истинности, попросту не хватало данных, более того, у этой теории было несколько крупных недостатков, в частности, она не объясняла, как изменения переходят от родителей к потомству [101] Abigail J. Lustig , «Darwin’s Difficulties», в кн. «The Cambridge Companion to the “Origin of Species”», ed. Michael Ruse and Robert J. Richards, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 109–28.
. Более того, все, что было известно о мире природы, вполне объяснялось конкурирующими теориями эволюции, например, трансформизмом [102] Pietro Corsi , «Before Darwin: Transformist Concepts in European Natural History», «Journal of the History of Biology» 38, 2005, рр. 67–83.
. Все мы читали популярные, упрощенные рассказы, как Дарвин триумфально доказал свою теорию. Но гораздо важнее прочитать самого Дарвина, который ясно и недвусмысленно дает понять, что чувствовал , что может доверять своей теории, невзирая на слабость доказательств.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу