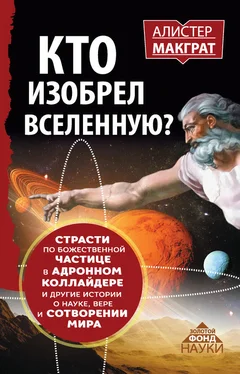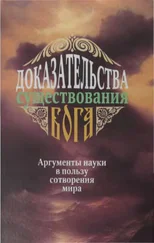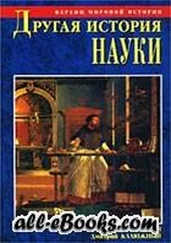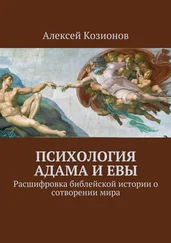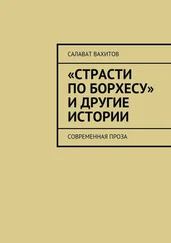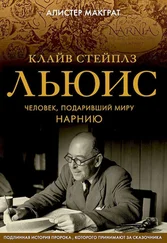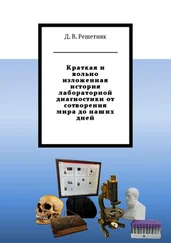Любой историк науки знает, что отношения науки с религией неоднозначны, их нельзя свести к упрощенческим лозунгам. Конечно, науке не раз и не два мешали религиозные предрассудки. Но неужели на пути научного прогресса никогда не вставали антирелигиозные предрассудки? Разумеется, этих случаев не найдешь в предвзятых подборках Докинза и Хитченса, однако без них не построишь сложную картину, а нам нужно, чтобы она получилась правильно.
Приведу пример. В послевоенные годы стало понятно, что Вселенная существовала не вечно, как полагали ученые прошлого. Научное сообщество постепенно пришло к согласию по этому вопросу. Вселенная возникла в результате конкретного события, получившего название Большой взрыв. Это новое представление произвело переворот в сложившемся научном мировоззрении и было встречено с недоверием некоторыми учеными, которые оспаривали новые данные. Однако в шестидесятые годы противниками этой гипотезы также стали видные ученые-атеисты, например, Фред Хойл и Стивен Вайнберг, которых тревожило, что представление о моменте зарождения Вселенной «какое-то религиозное», напоминает библейский рассказ о сотворении мира из книги Бытия.
В те годы атеистам больше импонировала стационарная модель Вселенной Фреда Хойла, поскольку в ней исключалась любая возможность «сотворения мира». В 1967 году, выступая в Массачусетском технологическом институте, Стивен Вайнберг отметил, что «стационарная теория с философской точки зрения более привлекательна, поскольку менее всего напоминает сюжет из книги Бытия», и сокрушенно добавил: «К сожалению, ей противоречат экспериментальные данные» [67] F. J. Tipler, C. J. S. Clarke and G. F. R. Ellis , «Singularities and Horizons – A Review Article», в кн. «General Relativity and Gravitation: One Hundred Years after the Birth of Albert Einstein», ed. A. Held, New York: Plenum Press, 1980, pp. 97–206, цитата на p. 110.
.
Как показывает эта зарисовка, история о науке и религии очень сложна! Миф о противостоянии науки и религии прекрасно соответствовал общественно-политической обстановке в Англии конца XIX века [68] К семидесятым-восьмидесятым годам прошлого века это стало окончательно ясно; см., например, Frank Miller Turner , «The Victorian Conflict between Science and Religion: A Professional Dimension», «Isis» 69, 1978, pp. 356–76; Colin A. Russell , «The Conflict Metaphor and Its Social Origins», «Science and Christian Faith» 1, 1989, pp. 3–26.
, когда «пожилые джентльмены, зачастую принадлежавшие к клирикам», были противопоставлены «молодым ученым-карьеристам вроде Гексли, которые усматривали во власти церкви препятствие для своих профессиональных устремлений» [69] Jack Morrell, Arnold Thackray , «Gentlemen of Science: Early Years of the British Association for the Advancement of Science», Oxford: Oxford University Press, 1981, p. 395.
. Недавние исследования подтвердили, что на самом деле в ту эпоху конфликтовали не наука и религия, а два разных понимания науки [70] Matthew Stanley , «Huxley’s Church and Maxwell’s Demon: From Theistic Science to Naturalistic Science», Chicago: University of Chicago Press, 2015, pp. 242–63.
. Однако нарратив, возникший из специфических реалий общественной жизни в конце викторианской эпохи, нельзя считать мерилом отношений между наукой и религией в других контекстах. Он ограничен конфликтами безвозвратно ушедшего прошлого, а нам надо двигаться дальше.
Я предлагаю другой нарратив – нарратив взаимного обогащения, который не отказывает эмпирическим наукам ни в чем, кроме притязаний на истинность в последней инстанции во всех сферах жизни. Этот нарратив конфликтует со сциентизмом, ставшим характерной чертой нового атеизма, но не конфликтует с наукой, которая всегда стремилась очертить собственные границы.
Сциентизм процветает в рамках нового атеизма, он стал официальной идеологией этого движения. Блогер Пол Захари Майерс, поборник сциентизма, лежащего в основе нового атеизма, предлагает такой подход к универсальной применимости научного метода:
Новый атеизм, хотя мне тоже не нравится такое название, – требует придерживаться базового набора принципов, которые зарекомендовали свою действенность и полезность в научном мире – должно быть, вы заметили, что многие заметные фигуры в атеизме вышли из научной среды, – и утверждает, что они применимы и ко всем остальным человеческим начинаниям [71] http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/06/14/high-priest-epstein-in-newswee/
.
Но почему этот «базовый набор принципов» из мира науки должен применяться «и ко всем остальным человеческим начинаниям»? Это догматическое утверждение, лишенное какой бы то ни было научной основы, более того, его сильно портит то, что при применении к реальному миру оно себя не оправдывает. Это все равно что заявить, что поскольку микроскопы так полезны в биологии, надо использовать их для выяснения смысла жизни, цены на хлеб и причин Первой мировой войны. «Базовый набор принципов» не дает ответов на «последние вопросы бытия».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу