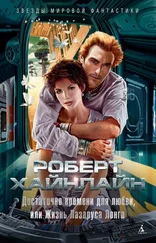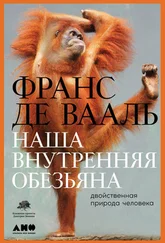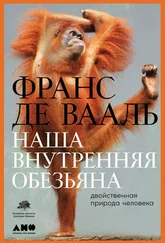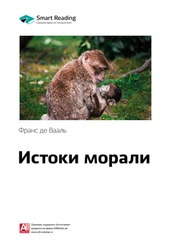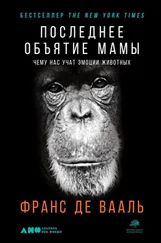Мое увлечение работой этой невоспетой героини науки привело меня в Москву. На своей родине Котс пользовалась (и пользуется) общим признанием как выдающийся ученый. Для меня организовали неофициальную экскурсию по музею, где мне представилась возможность полистать ее личные альбомы рисунков. Я с удивлением узнал, что среди ее домашних питомцев были как минимум три крупных попугая. На одном рисунке Надежда Котс принимает предмет, который вручает ей какаду, на другом держит поднос с тремя чашками перед ара. На третьем попугаи сидят перед ней на столе, а она держит в одной руке небольшой пищевой приз, а в другой – карандаш, которым записывает, как попугаи делают выбор между предметами. Я проконсультировался со специалистом по попугаеобразным – американским психологом Ирэн Пепперберг, но она ничего не слышала о работе Котс с попугаями. Я сомневаюсь, подозревал ли кто-нибудь на Западе, что познавательные способности птиц начали изучать в России задолго до того, как этим занялись во всем мире.
Я познакомился с Алексом, попугаем жако, во время моих посещений Ирэн на ее факультете в университете неподалеку; этого попугая Ирэн вырастила и изучала уже три десятилетия. Она купила птицу в зоомагазине в 1977 г., когда начала работать над перспективным проектом, призванным открыть общественности глаза на наличие умственных способностей у птиц. Проект проложил путь всем последующим подобным исследованиям, вопреки общепринятому мнению, что мозг птиц просто не приспособлен для умственной деятельности. Предполагалось, что из-за отсутствия у птиц структуры, похожей на кору головного мозга млекопитающих, они наделены инстинктами, но не способны к обучению, не говоря уже о мышлении. Между тем у птиц достаточно большой мозг: у попугая жако он достигает размера ядра грецкого ореха – с обширными областями, работающими наподобие коры головного мозга млекопитающих, а естественное поведение птиц служит достаточным основанием усомниться в их ограниченных умственных способностях. Тем не менее иная, чем у млекопитающих, организация мозга использовалась как аргумент против птиц.
Так как я сам держал дома и занимался исследованием галок – представителей семейства врановых, также обладающих большим мозгом, – то у меня никогда не возникало сомнений относительно их способностей. Когда я гулял в парке, мои птицы дразнили собак, пролетая у них прямо перед носом, но увертываясь от щелкающих зубов, к удивлению и досаде их хозяев. В помещении мы с галками играли, пряча друг от друга вещи: я убирал небольшой предмет, например пробку, под подушку или за цветочный горшок, и наоборот. Эта игра основывалась на хорошо известном умении галок и ворон прятать пищу, но также предполагала представление о постоянстве предметов – понимании того, что объект продолжает существовать, даже когда он исчезает из вида. Чрезвычайная игривость моих галок, как, кстати, и животных, указывала на их развитые умственные способности и стремление испытать свои силы. Поэтому, навещая Ирэн, я был готов к сюрпризам, которые преподносят птицы, и Алекс меня не разочаровал. Самодовольно усевшись на своей жердочке, он произносил названия различных предметов, таких как ключи, треугольники и квадраты, повторяя «ключ», «три угла», «четыре угла», когда ему показывали соответствующий объект.
На первый взгляд, это напоминало обучение языку, но я не уверен, что такое объяснение правильно. Ирэн не утверждала, что Алексова речь сопоставима с нашим лингвистическим пониманием этого слова. Но, конечно, умение называть предметы – это существенная составляющая речи, и мы не должны забывать, что раньше лингвисты определяли язык как общение с помощью символов. Только когда выяснилось, что человекообразные обезьяны способны к подобному общению, пришлось поднять планку выше и внести уточнения, что язык должен обладать также синтаксисом и рекурсивностью. Овладение языком животными превратилось в важную проблему, вызывавшую пристальный интерес общественности. Получалось так, словно все вопросы относительно разума животных сводятся к подобию теста Тьюринга: можем ли мы, люди, поддерживать с ними осмысленный разговор? Речь представляет собой настолько характерное качество человека, что в XVIII в. французский епископ готов был крестить человекообразную обезьяну, если бы у нее обнаружилась способность говорить. Именно таким образом обстояло дело в науке в 1960–1970-х гг., что привело к попыткам разговаривать с дельфинами и множеством приматов. Однако ситуация резко изменилась, когда в 1979 г. американский психолог Херберт Террас опубликовал чрезвычайно скептическую статью об общении языком жестов с шимпанзе Нимом Шимпски, названным в честь американского лингвиста Ноама Хомски {131}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
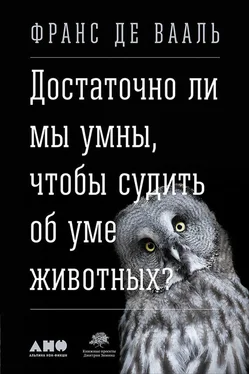

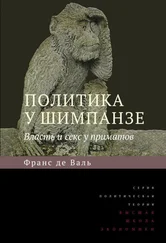

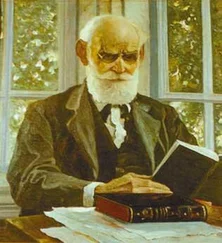
![Франс Вааль - Последнее объятие Мамы [litres]](/books/406055/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres-thumb.webp)