1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 Когда мы спрашиваем Спинозу, как он пришел к идее одной единственной субстанции для всех атрибутов, он напоминает, что предложил два аргумента: чем больше у некоего сущего реальности, тем больше в нем опознается атрибутов; чем больше атрибутов мы опознаем в неком сущем, тем больше следует придать ему существования. [49] Письмо 9 де Врису (т.2, с. 415). В Этике первый аргумент встречается почти буквально в I, 9; второй, менее четко, в I, 11, схолия.
Итак, ни одного из этих аргументов не было бы достаточно, если бы каждый из них не был подкреплен анализом реального различия. Действительно, только такой анализ показывает, что можно придать все атрибуты некоему сущему, а значит перейти от бесконечности каждого атрибута к абсолютности сущего, кое обладает ими всеми. И такой переход – являясь возможным или не предполагая противоречия – оказывается необходимым, согласно доказательству существования Бога. Более того, именно аргумент реального различия еще показывает, что все атрибуты суть бесконечность. Ибо мы не смогли бы переходить при посредстве трех или четырех атрибутов, не привнося повторно в абсолют то самое числовое различие, каковое только что исключили из бесконечности. [50] См. Письма б4 Шулеру (т.2, с. 604).
Если бы мы делили субстанцию согласно атрибутами, то ее следовало бы трактовать как некий род, а атрибуты – как специфические [видовые] различия. Субстанция полагалась бы как род, который не подвигал бы нас ни к какому особому познанию; тогда она отличалась бы от своих атрибутов, как род от своих [видовых] различий, а атрибуты отличались бы от соответствующих субстанций, как их специфические различия и сами их виды. Именно так, превращая реальное различие между атрибутами в числовое различие между субстанциями, мы переводим простое мысленное различие в субстанциальную реальность. Нет необходимости существования для субстанции одного и того же «вида» как атрибута; специфическое различие задает только возможное существование объектов, соответствующих ему внутри рода. Вот почему субстанция всегда сводится к простой возможности существовать, причем атрибут – только индикатор, знак такого возможного существования. Первая критика, какой Спиноза подвергает понятие [notion] знака в Этике, появляется именно касательно реального различия. [51] Э, I, 10, схолия: «Если же спросят по какому признаку [signe] можем мы узнать различие субстанций, то пусть прочитают следующие теоремы, показывающие, что в природе вещей существует только одна субстанция, и что она абсолютно бесконечна, и потому искать такого признака было бы тщетно».
Реальное различие между атрибутами является «знаком» разнообразия субстанций не более, чем каждый атрибут является специфической характеристикой некой субстанции, которая соответствует или могла бы ему соответствовать. Ни субстанция не является родом, ни атрибуты не являются [видовыми] различиями, ни качественно определенные субстанции не являются видами. [52] КТ, 1, гл. 7, с. 105–106.
Равным образом Спиноза осуждает мышление, действующее посредством рода и [видовых] различий, мышление, действующее посредством знаков.
Регис [Régis] – в книге, где он защищает Декарта от Спинозы, – обращается к существованию двух типов атрибутов: одни – «специфические», различающие субстанции разного вида, другие – «числовые», различающие субстанции одного и того же вида. [53] Regis, Refutation de l’opinion de Spinosa touchant l’existence et la nature de Dieu, 1704.
Но именно это Спиноза выдвигает против картезианства. Согласно Спинозе атрибут никогда не является ни специфическим, ни числовым. По-видимому, мы можем резюмировать тезис Спинозы: 1°) постулируя несколько субстанций с одним и тем же атрибутом, мы превращаем числовое различие в реальное различие, но тогда мы смешиваем реальное и модальное различия, мы трактуем модусы как субстанции; 2°) постулируя столько субстанций, сколько есть различных атрибутов, мы превращаем реальное различие в числовое различие, мы смешиваем реальное различие не только с модальным различием, но также и с мысленным различием.
В таком контексте, по-видимому, трудно полагать, будто у первых восьми теорем только гипотетический смысл. Порой мы действуем так, как если бы Спиноза начинал рассуждать, опираясь на гипотезу, не являющуюся его собственной, как если бы он исходил из гипотезы, которую намерен опровергнуть. Но тогда мы упускаем категориальный смысл первых восьми теорем. Не бывает несколько субстанций с одним и тем же атрибутом, числовое различие не реально: мы не находимся перед предварительной гипотезой, весомой лишь постольку, поскольку мы еще не обнаруживаем абсолютно бесконечную субстанцию; напротив, мы присутствуем при генезисе, который с необходимостью ведет нас к положению такой субстанции. И категориальный смыл первых теорем не только негативен. Как говорит Спиноза, «существует только одна субстанция одной и той же природы». Отождествление атрибута с бесконечно совершенной субстанцией – как в Этике, так и в Кратком трактате, – само не является предварительной гипотезой. Позитивно она должна интерпретироваться с точки зрения качества. С точки зрения качества существует одна субстанция для атрибута, но с точки зрения количества есть одна единственная субстанция для всех атрибутов. Что же означает такая чисто качественная множественность? Эта неясная формулировка отмечает трудности конечного разума, возвысившегося до понимания абсолютно бесконечной субстанции. Она оправдывается новым статусом реального различия. Она хочет сказать: качественно определенные субстанции различаются качественно, а не количественно. Или, еще лучше, они различаются «формально», «сущностно», но не «онтологически».
Читать дальше
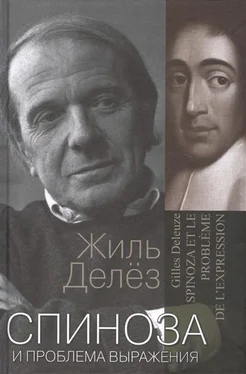



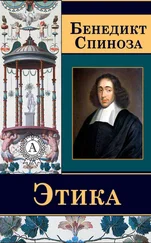
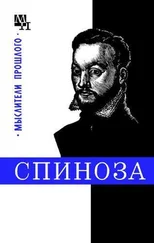
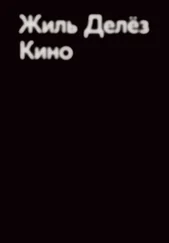

![Ирвин Ялом - Проблема Спинозы [litres]](/books/396345/irvin-yalom-problema-spinozy-litres-thumb.webp)
