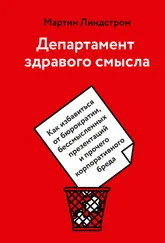Как показывает последний пример, когда мы обсуждаем эти константы, мы говорим о некоем абстрактном идеале того, как должны работать бюрократические системы, а не о том, как они на самом деле работают. В действительности бюрократии редко бывают нейтральными; они почти всегда подчиняются определенным привилегированным группам (зачастую расовым) или благоприятствуют им больше, чем остальным; они устанавливают настолько сложные и противоречивые правила, что им практически невозможно следовать, в результате чего управленцы получают огромную личную власть. Тем не менее в реальном мире все эти отступления от бюрократического принципа расцениваются как злоупотребления. В фантастических мирах они считаются добродетелями.
И все же эти добродетели оказываются преходящими. Посещение фантастической страны – захватывающее предприятие. Мало кто из нас захотел бы в ней жить. Но если я прав, утверждая, что такая литература, вне зависимости от намерений авторов, в конечном итоге побуждает читателей задаваться вопросом о последствиях их подозрений относительно бюрократического существования, то суть именно в этом.
Таким образом, фантастическая литература в значительной степени представляет собой попытку представить мир, полностью очищенный от бюрократии, – читатели могут смаковать ее и как разновидность искупительного эскапизма, и как подтверждение того, что, в конце концов, скучный администрируемый мир, возможно, лучше любой альтернативы, которую только можно представить.
И тем не менее в таких мирах бюрократия и бюрократические принципы отсутствуют не полностью. Они просачиваются с разных направлений.
Во-первых, старая воображаемая администрация Вселенной, разработанная в Средние века, в большинстве фантастических миров отвергается не целиком. Это происходит потому, что, хотя в таких мирах технология находится на уровне ветряных и водяных мельниц, магия там почти всегда работает. А тот вид магии, который встречается в этих историях, чаще всего позаимствован из западной церемониальной магической традиции, идущей от древних чародеев вроде Ямвлиха до викторианских магов вроде Макгрегора Мазерса и полной демонов, которых призывают при помощи магических кругов, песнопений, заговоров, мантий, талисманов, свитков и волшебных палочек. То же касается космических иерархий, сложных логических порядков заклинаний, орденов, властей, влияний, небесных сфер с их различными силами, обозначениями и сферами административной ответственности: все они обычно так или иначе сохраняются как скрытая возможная форма власти в рамках ткани самой антибюрократической вселенной. Действительно, в самых ранних и наиболее антибюрократических мирах колдуны либо зловредны (Зукала из «Конана-варвара» или миллион ему подобных злодеев из дешевых романов, или даже аморальный Элрик Майкла Муркока) 155, либо, если они добрые, технический аспект их искусства минимизируется (способности Гэндальфа скорее представляются продолжением его личной харизмы, чем зависят от знания таинственных заклинаний). Но с течением времени, на пути от «Волшебника Земноморья» до «Гарри Поттера», магия – и магические знания – занимали все более центральное место. И разумеется, когда мы доходим до Гарри Поттера, мы совершаем путешествие от явно выраженных героических царств вроде Киммерии, Эльфленда или Гипербореи до антибюрократического нарратива, который располагается в рамках классического бюрократического института: английской закрытой школы в волшебном мире, где тем не менее полно скамеек, есть Министерство магии, Следственные комиссии и даже тюрьмы. В книгах о Гарри Поттере в этом и заключается юмор: давайте возьмем наиболее унылое, скучное учреждение, повинное в разочарованности мира, и попытаемся состряпать самые смелые его версии, которые мы только можем представить.
Как это могло произойти? Ну, одна причина состоит в том, что жанры популярной фантастики все меньше ограничиваются одними лишь книгами (это особенно справедливо, если дело так или иначе касается детей или подростков). Причем они получили распространение не только в кино– или телефильмах: их можно встретить в настольных играх и моделях, пазлах и игрушках-трансформерах, различных видах фан-литературы, в интернет-журналах и в фан-арте, в видео– и компьютерных играх. В случае фантастического жанра невозможно понять по́зднее развитие литературы, не принимая во внимание ставшую популярной в конце 1970-х ролевую игру «Драконы и подземелья», которая дала возможность сотням тысяч подростков по всему миру придумывать собственные фантастические миры и приключения, как если бы они все вместе писали историю или сценарий своих приключений в режиме реального времени.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
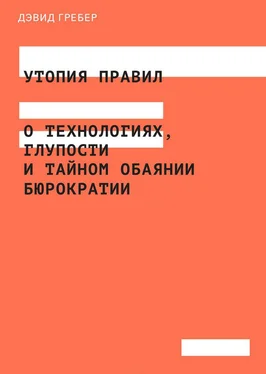
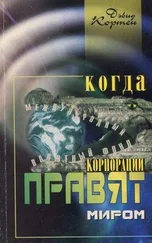



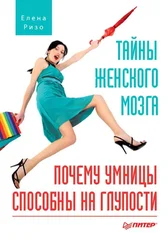
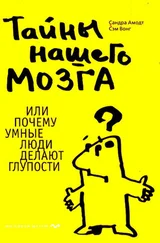

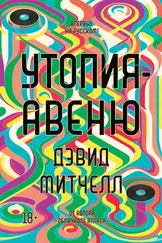
![Дэвид Гребер - Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres]](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-thumb.webp)