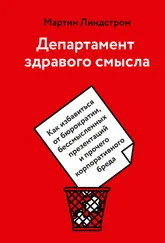Выход находили в предполагаемой промежуточной субстанции, состоящей из того же материала, что и звезды, – это была «пневма», разновидность системы кровообращения, через которую могло проходить восприятие материального мира, насыщаясь в процессе эмоциями и общаясь с различными привидениями до того, как рациональный ум осознавал их значение. Намерения и желания двигались в противоположном направлении, протекая через воображение до того, как их можно было воплотить в жизнь. Лишь после Декарта слово «воображаемый» стало означать все то, что не является реальным: воображаемые существа, воображаемые места (Нарния, планеты в далеких галактиках, царство пресвитера Иоанна), воображаемые друзья. С этой точки зрения словосочетание «политическая онтология воображения» могло быть лишь логическим противоречием. Воображение не может быть основой реальности. Оно по определению является тем, что мы можем помыслить, но что не обладает реальностью.
Последнее я буду называть «трансцендентным понятием воображения», поскольку в качестве модели оно берет романы или другие художественные произведения, которые создают воображаемые миры, остающиеся неизменными вне зависимости от того, сколько раз мы их прочитываем. Реальный мир не влияет на воображаемые существа – эльфов, единорогов или полицейских из телесериалов. И не может влиять, поскольку они не существуют. Напротив, та разновидность воображения, о которой я пишу в этом очерке, намного ближе к старой, имманентной концепции. Немаловажно то, что она ни в коей мере не статична и не находится в свободном плавании, а полностью заключена в проектах действий, которые нацелены на то, чтобы оказывать реальное влияние на материальный мир, а значит, постоянно меняются и приспосабливаются. Это в равной мере справедливо и для тех, кто изготавливает ножи или ювелирные украшения, и для тех, кто пытается не задеть чувств своего друга.
Именно во второй половине XVIII века, когда зародились промышленный капитализм, современное бюрократическое общество и политическое деление на правых и левых, новая, трансцендентная, концепция воображения вышла на первый план. В частности, для представителей романтизма воображение заняло место, ранее принадлежавшее душе – вместо того чтобы выступать посредником между рациональной душой и материальным миром, оно стало душой, а душа стала чем-то, что находилось за пределами всякой простой рациональности. Легко увидеть, как становление безличного, бюрократического порядка учреждений, фабрик и рациональной администрации дало жизнь мыслям такого рода. Но поскольку воображение превратилось в остаточную категорию (чего не скажешь о новом порядке), оно также не стало чисто трансцендентным; на самом деле оно неизбежно преобразовалось в своего рода безумную мешанину того, что я назвал трансцендентным и имманентным принципами. С одной стороны, воображение рассматривалось как источник искусства и всякого творчества. С другой – оно было основой человеческого сопереживания, а значит, и нравственности 73.
Двести пятьдесят лет спустя нам, пожалуй, стоит навести в этом порядок.
Потому что, честно говоря, на кону стоит многое. Чтобы убедиться в этом, вернемся ненадолго к лозунгу 1968 года «Вся власть – воображению!» О каком воображении идет речь? Если отнести это к трансцендентному воображению, то есть к попытке навязать некую заранее придуманную утопическую идею, то последствия могут быть катастрофическими. В истории такой призыв зачастую подразумевал создание огромной бюрократической машины, предназначенной для насильственного распространения таких утопических представлений. Вероятным результатом будут зверства мирового масштаба. С другой стороны, в революционной ситуации кто-то может с тем же успехом начать доказывать, что если не дать полной власти другой, имманентной разновидности воображения – практическому здравому воображению обычных поваров, сиделок, механиков и садовников, – то последствия, вполне вероятно, будут такими же.
Подобная путаница и переплетение различных концепций воображения красной нитью проходят через всю историю левой мысли.
Это противоречие просматривается уже у Маркса. В его подходе к революции есть странный парадокс. Как я уже отмечал, Маркс утверждает, будто мы являемся людьми потому, что не полагаемся на бессознательные инстинкты, как пауки и пчелы, а сначала создаем структуры в нашем воображении и затем воплощаем их в жизнь. Когда паук плетет паутину, он действует инстинктивно. Архитектор сначала чертит план и лишь затем приступает к возведению фундамента своего здания. Это справедливо, настаивает Маркс, для всех форм материального производства, будь то строительство мостов или изготовление лодок. И все же, когда Маркс говорит о социальном творчестве, его ключевым примером (да и вообще единственной разновидностью социального творчества, о которой он говорит) всегда является революция и, как только он заводит о ней речь, он резко меняет регистр. На самом деле он опровергает самого себя. Революционер никогда не должен действовать как архитектор; он не обязан сначала чертить идеальное общество, а затем думать о том, как его воплотить. Это было бы утопизмом. А к утопизму Маркс не испытывал ничего, кроме испепеляющего презрения. Напротив, революция – это фактическая имманентная деятельность пролетариата, который, в конце концов, пожнет ее плоды так, как мы сегодня и представить себе не можем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
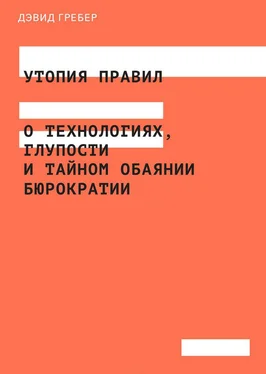
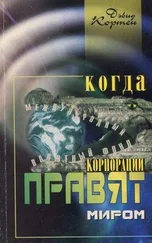



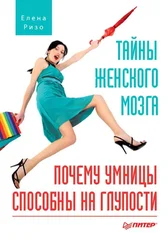
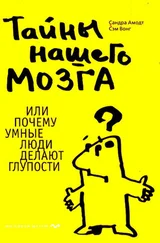

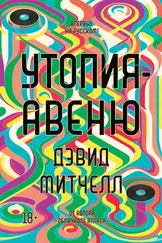
![Дэвид Гребер - Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres]](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-thumb.webp)