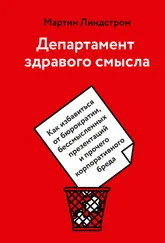Примерно в то же время Сен-Симон и другие утопические социалисты утверждали, что художники должны были стать авангардом, или «передовым отрядом», как он это называл, нового социального порядка и создавать великие образы, которые промышленность теперь была в состоянии воплотить в жизнь. То, что тогда могло показаться фантазией эксцентричного памфлетиста, вскоре стало хартией спорадического, зыбкого, но внешне постоянного союза, который сохраняется и по сей день. Если с тех пор художественный авангард и социальные революционеры чувствовали взаимную близость и перенимали друг у друга язык и идеи, то, по-видимому, объяснялось это тем, что и те и другие считали, что вся тайна состоит в том, что мир на самом деле создаем мы сами и что мы вполне способны делать это иначе. В этом смысле фраза вроде «Вся власть – воображению!» выражает самую суть левой мысли.
С точки зрения левых тайная реальность человеческой жизни состоит в том, что мир не просто существует. Это не природная данность, даже несмотря на то, что мы относимся к нему, словно так и есть, – он есть потому, что мы совместно его создаем. Мы представляем себе то, что нам нравится, и затем воплощаем это в жизнь. Однако как только вы начинаете рассматривать это в таких категориях, сразу становится ясно, что что-то пошло совсем не так. Ведь кто бы стал создавать мир таким, какой он есть, если бы он мог просто представить мир, который ему нравился бы, и воплотить его в жизнь? 71Возможно, в самом чистом виде воззрения левых нашли отражение в словах философа-марксиста Джона Холлоуэя, который собирался назвать одну свою книгу «Прекратите строить капитализм» 72. Капитализм, отмечал он, это не нечто навязанное нам какой-то внешней силой. Он существует только потому, что каждый день мы просыпаемся и продолжаем его создавать. Если бы однажды утром мы встали и все вместе решили бы культивировать что-то другое, то капитализма у нас больше не было бы. Это главный революционный вопрос: при каких условиях мы сможем это сделать – просто проснуться, придумать и сделать что-то другое?
На это внимание к силам творчества и производства правые пытаются возразить, что революционеры систематически упускают из вида социальное и историческое значение «средств разрушения»: государств, армий, палачей, варварских вторжений, преступников, неуправляемых толп и тому подобного. Если делать вид, что всего этого нет или что это исчезнет само собой, то левые режимы, утверждают они, приведут к еще большему количеству смертей и поражений, чем порядки тех, кто мудро придерживался более «реалистического» подхода.
Разумеется, это до определенной степени упрощение, и тут можно сделать множество оговорок. Буржуазия времен Маркса, например, придерживалась философии, сосредоточенной на производстве – это одна из причин, почему Маркс рассматривал ее в качестве революционной силы. Элементы правой мысли смешались с артистическим идеалом, а марксистские режимы XX века зачастую перенимали правые, по своей сути, теории власти и лишь на словах соглашались с определяющей ролью производства. С другой стороны, настойчиво упекая в тюрьму поэтов и драматургов, чьи произведения они считали опасными, они обнаружили глубокую веру в способность искусства и творчества изменить мир – правители капиталистических режимов особо по этому поводу не беспокоились, поскольку были уверены, что если они будут твердой рукой контролировать средства производства (а также, разумеется, армию и полицию), то все остальное наладится само собой.
Одна из причин, по которым все это трудно увидеть, заключается в том, что слово «воображение» может иметь множество значений. В большинстве современных определений воображение противопоставлено реальности; «воображаемые» вещи – это в первую очередь те, которых на самом деле здесь нет. Это может порождать большую путаницу, когда мы говорим о воображении абстрактно, поскольку возникает впечатление, будто воображение куда больше связано со спенсеровской «Королевой фей», чем с группой официанток, которая пытается придумать, как успокоить пару за седьмым столиком до того, как появится босс.
И все же такое представление о воображении относительно ново и продолжает сосуществовать с намного более старыми. В античном и средневековом понимании, например, то, что мы называем «воображением», считалось не чем-то противоположным реальности, а своего рода средней позицией, переходной зоной, соединяющей материальную реальность и рациональную душу. Так думали и те, кто считал разум прежде всего проявлением Бога и вследствие этого полагал, что мышление соотносится с божественным, которое не соотносится с материальной реальностью и даже является совершенно чуждым ей (в средневековом христианстве эта точка зрения стала преобладающей). Как тогда рациональный ум мог получать чувственные впечатления от природы?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
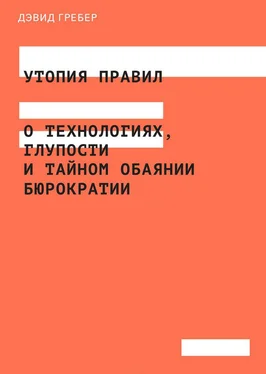
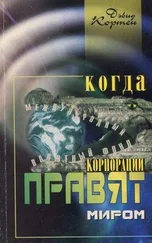



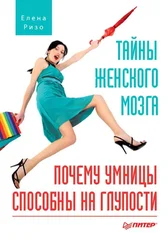
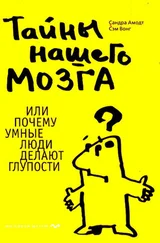

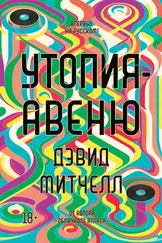
![Дэвид Гребер - Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres]](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-thumb.webp)