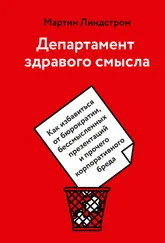Почему у нас такая путаница относительно того, что полиция делает на самом деле? Очевидная причина заключается в том, что в последние пятьдесят лет или около того в популярной культуре полиция стала навязчивым предметом воображаемой идентификации. Дошло до того, что в современной промышленной демократии гражданин нередко проводит по нескольку часов в день за чтением книг, просмотром фильмов и телепрограмм, которые предлагают им взглянуть на мир с точки зрения полиции и опосредованно участвовать в ее подвигах. И эта воображаемая полиция действительно тратит бо́льшую часть времени на борьбу с уголовной преступностью или на устранение последствий ее деятельности.
Все это как минимум ставит под сомнение беспокойство Вебера относительно железной клетки, то есть относительно опасности того, что безликие технократы так хорошо организуют современное общество, что в нем полностью исчезнут харизматичные герои, волшебство и романтика 64. Действительно, получается, что бюрократическое общество проявляет тенденцию к созданию собственных уникальных харизматичных героев. С конца XIX века они облекались в форму бесконечной вереницы мистических детективов, полицейских и шпионов – все эти персонажи работают как раз там, где бюрократические структуры, упорядочивающие информацию, прибегают к физическому насилию. В конце концов, бюрократия существовала тысячи лет и бюрократические общества, от Шумера и Египта до императорского Китая, создали великую литературу. Однако современные общества Северной Атлантики первыми породили такие жанры, в которых сами герои являются бюрократами или действуют исключительно в бюрократической обстановке 65.
Меня поражает, что изучение роли полиции в нашем обществе дает возможность дополнить социальную теорию интересными аспектами. Конечно, я признаю, что в настоящем очерке я не выказывал особенной любезности по отношению к ученым и к большей части их привычек и предпочтений. Меня бы не удивило, если бы кто-нибудь счел написанное аргументом в пользу бессмысленности социальной теории – эдакие высокомерные фантазии о замкнутой в себе элите, автор которых отказывается признавать простые реалии власти. Но я говорю вовсе не об этом. Данное эссе само по себе является упражнением в социальной теории и, если бы я не думал, что такие упражнения могут пролить свет на сферы, остающиеся неясными, я бы не стал его писать. Вопрос в том, какого рода эти упражнения и какую цель они преследуют.
Здесь многое можно увидеть, сравнив бюрократическое и теоретическое знание. Первое сосредоточено на схематизации. На практике бюрократические процедуры неизбежно игнорируют все тонкости реальной социальной жизни и сводят все к заранее разработанным механизмам или к статистическим формулам. Идет ли речь о бланках, правилах, статистике или вопросниках, это всегда упрощение. Как правило, это не сильно отличается от ситуации, когда босс заходит на кухню и произвольно и быстро решает, что пошло не так: речь всякий раз идет о применении примитивных, уже существующих образцов к сложным и зачастую запутанным ситуациям. В результате у тех, кто сталкивается с бюрократической администрацией, складывается впечатление, что они имеют дело с людьми, по какой-то произвольной причине решившими надеть очки, в которых они видят только два процента того, что находится у них перед глазами. Но нечто очень похожее происходит и в социальной теории. Антропологи любят называть то, что они делают, «толстым описанием», но на самом деле этнографическое описание, каким бы хорошим оно ни было, охватывает, в лучшем случае, два процента того, что происходит в каждой истории кровной вражды между нуэрами или в петушином бою на Бали. Теоретическая работа, опирающаяся на этнографические описания, обычно фокусируется лишь на крохотной части этого, выдергивая одну или две нити из бесконечно сложной ткани человеческого бытия и используя их как основу для обобщений, скажем, о динамике социального конфликта, природе эффективности или принципах иерархии.
Я не хочу сказать, что такого рода теоретическая редукция неправильна. Напротив, я убежден в том, что этот процесс необходим, если мы хотим сказать о мире что-то совершенно новое.
Возьмем, к примеру, роль структурного анализа, который в 1950–1960-е годы стал широко известен благодаря антропологам вроде Клода Леви-Стросса или историкам античности вроде Поля Вернана. Сегодня структурный анализ не в моде и считается среди ученых безнадежно устаревшим – большинство антропологов находят все произведения Клода Леви-Стросса смешными. Мне это кажется ошибкой. Конечно, когда структурализм провозглашали единственной грандиозной теорией мышления, языка и общества, дававшей ключ к познанию тайн человеческой культуры, это было и вправду нелепо, и отказ от него был оправданным. Но структурный анализ был не теорией, а приемом, и выкидывать его в окно, как многие делали, значит лишать себя одного из наших самых оригинальных инструментов. Ведь большое достоинство структурного анализа состоит в том, что он представляет собой практически универсальный прием, чтобы делать то, что должна делать всякая хорошая теория: обеспечивать такое упрощение и схематизацию комплексного материала, которые дают возможность сказать что-то неожиданное. К мысли о Вебере и героях бюрократии, изложенной несколькими абзацами выше, я пришел случайно, в ходе эксперимента, который я проводил, чтобы объяснить структурный анализ на одном семинаре в Йельском университете.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
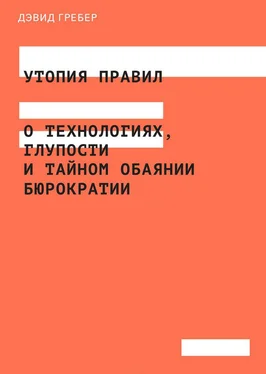
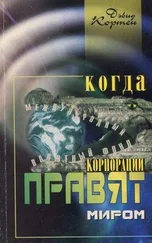



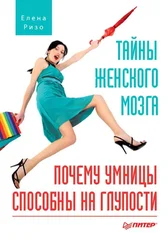
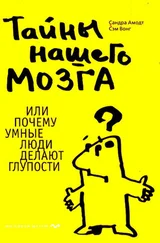

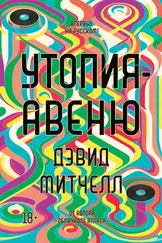
![Дэвид Гребер - Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres]](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-thumb.webp)