Подобная нелояльность также является прямым следствием единоличного управления империей, особенно когда эта личность олицетворяет завоевание. В присутствии Александра и могущественной армии сопротивление на время ослабело, но когда он ушел, все сразу стало иначе – и в Бактрии, и в Индии. В последней Александр признал власть многих местных раджей, которые повиновались ему, например Таксилы к востоку от Инда, да и после битвы при Гидаспе Пору позволили сохранить свое царство, пусть он и стал вассалом Александра. Однако стоило царю покинуть Индию, как все местные правители забыли о клятвах и оказались вассалами лишь на словах.
Диодор рассказывает, как еще Александр намеревался управлять империей. В своем повествовании о так называемых последних планах Александра он говорит, что царь собирался основывать города и переселять жителей Азии в Европу и наоборот, дабы объединить «величайшие территории в общее и дружественное государство через смешанные браки и семейные узы» [173]. Александр не успел приступить к реализации проектов переселения народов, но основал множество городов, не менее семидесяти. Однако большинство из них представляли собой не привычные полисы с конституциями, гимнасиями, театрами и прочими атрибутами греческой городской жизни; скорее, это были гарнизонные городки, зачастую заселенные ветеранами и местными, чтобы контролировать ту или иную местность [174]. Настоящих городов Александр, вероятно, основал лишь десяток, и среди них наиболее известна Александрия в Египте [175].
Основание городов по стратегическим причинам не являлось новшеством. Филипп II поступал точно так же, укрепляя северо-западную границу Македонии, где постоянно доставляли хлопоты иллирийские племена; заимствование Александром элемента отцовской тактики показывает: он понимал, что привлечения местных сатрапов недостаточно для умиротворения новых подданных. Филипп покорил многочисленные иллирийские племена, объединил Македонию, а затем включил иллирийцев в состав македонского войска. Тем не менее он бдительно следил за ними на протяжении всего своего царствования [176]. И Александр тоже не мог допустить, что он обойдется назначениями местных сатрапов. Именно поэтому он разместил гарнизонные городки в тех областях империи, где ожидалось наибольшее сопротивление, – вполне естественно, что основная их масса была сосредоточена в восточной части империи. Впрочем, даже этого не хватило в Бактрии и Согдиане [177].
Новые поселения также содействовали развитию торговли и коммуникаций, хотя экономической значимости они достигли уже после Александра. Египетская Александрия, к примеру, сделалась культурным и экономическим центром в эллинистический период, после того как Птолемей I перенес в нее столицу [178]. Реальные преимущества использования городов для сохранения господства над огромными территориями демонстрирует владычество Селевкидов в Сирии. Не может считаться совпадением, что Селевк, первый из них и первый «осознанный» градостроитель, был одним из полководцев Александра. Он хорошо изучил проекты своего царя.
Диодор также говорит о «единении» западной и восточной половин империи Александра благодаря смешанным бракам. Эти рассуждения, в сочетании со стремлением Плутарха представить Александра философом и идеалистом (в риторическом трактате «О судьбе и доблести Александра»), привели к убеждению, что Александр намеревался создать посредством своей империи общечеловеческое братство. Конечно, нельзя отрицать заслуг политики, которая пытается сделать чужеземное правление приемлемым не через насилие, но через пропаганду равенства и братства, и некоторые действия Александра на протяжении его царствования, кажется, подтверждают мнение, что он стремился обеспечить такое равенство. Особое место среди этих поступков занимают создание местных подразделений в имперской армии, назначение местных администраторов, свадьба весной 327 г. с бактрийской принцессой Роксаной, попытка ввести при дворе проскинезу, коллективное бракосочетание в Сузах в 324 г., на котором царь и девяносто старших македонских чинов женились на персидских аристократках, и, наконец, «пир примирения» в Описе в 324 г., где Александр публично молился о всеобщей гармонии.
Но в лексиконе Александра не было таких слов, как «политика объединения человечества» [179]. Ни один из перечисленных выше поступков не был идеологическим по своим целям; как и все, что предпринимал Александр, это была чистой воды прагматика, схожая, к примеру, с основаниям городов для поддержания македонского присутствия. Скажем, иноземцы в его войске, будь то инженеры из Ирана или конники-бактрийцы, оставались «моноэтническими» единицами до 324 г., когда их включили в армию по тактическим соображениям – для Аравийского похода [180]. Местные сатрапы, как уже отмечалось, являлись номинальными фигурами: таким образом могущественным семействам как бы возвращали подобие их бывшей власти в обмен на поддержку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
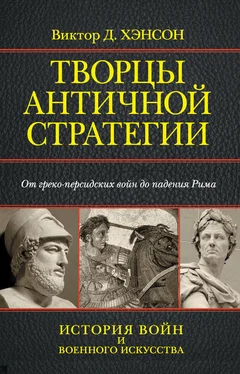





![Ревекка Рубинштейн - За что Ксеркс высек море [Рассказы из истории греко-персидских войн]](/books/408677/revekka-rubinshtejn-za-chto-kserks-vysek-more-rasskazy-iz-istorii-greko-persidskih-vojn-thumb.webp)





