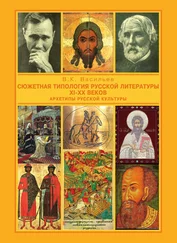Долгая пауза.
– Я смущена.
Еще пауза.
– Я смущена.
Прошла минута, другая – в полной тишине. Наконец кто-то спросил, правда ли, что она до сих пор «скрывает некоторые неопубликованные письма».
Натали Бабель вздохнула.
– Позвольте мне рассказать историю о письмах. – История состояла в том, что к Натали попал сундучок писем отца. («Писем ее папочки», – пояснила Люба.) – Я знала, что должен прийти биограф, – продолжила она, – Но он меня раздражал. Поэтому я отдала письма тетке. Когда пришел биограф, я сказала, что у меня ничего нет.
– И где же письма теперь?
Натали не знала.
– Может, у меня под кроватью, не помню.
Заседание закончилось дурдомом.
После дневной сессии на тему «Бабель и мировая литература» я отправилась на велосипеде в свой жилой комплекс и там чуть не наехала на Фишкина, который курил в пижаме на улице. Я поздравила его с возвращением с Тахо и спросила, как ему конференция. Выяснилось, конференция ему никак. А к его связанным с Тахо неприятностям добавилось еще и то, что известный специалист по XX веку Борис Залевский показал ему на парковке средний палец.
– Ты шутишь? – спросила я.
– Н-н-нет! – ответил Фишкин, который в волнующие моменты начинал заикаться. – Это правда, клянусь!
Залевский привел меня в недоумение еще на сессии вопросов-ответов в конце дневного заседания. Один знаменитый профессор сравнительного литературоведения прочел показавшийся мне крайне неубедительным доклад, где пассаж из «Мадам Бовари» с мухами, умирающими на дне бокала с сидром, был сопоставлен с бабелевским описанием гибели эскадронного Трунова. (Сходство якобы заключалось в том, что и Флобер, и Бабель эстетизировали банальное.) Мой консультант Моника Гринлиф, модератор заседания, вернувшись к теме мух в сидре, сравнила их с дохлыми мухами в чернильнице Плюшкина из «Мертвых душ» и с мухами, пожирающими друг друга, в стихе капитана Лебядкина из «Бесов» Достоевского. Мне эта линия сравнения показалась куда более перспективной: тем более у Бабеля тоже есть строчка о том, как в тифлисской гостинице «в пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи». Прекрасный пассаж: «Каждая умирала по-своему». Мой консультант не успела даже дойти до сути своей мысли о мертвых мухах, как ее перебил Залевский: «Пример с Флобером уместен, а ваш – нет».
Это меня смутило, поскольку доклад Залевского мне как раз понравился. Он был куда интереснее, чем все эти выступления об «эстетизации банального» и «восторге восприятия». Но если он такой умный мужик, то что же он а) хвалит посредственный доклад и б) грубит Монике, которая так легко оперирует всеми утонувшими мухами в русской литературе.
– У него, наверное, биполярное расстройство, – сказала я Фишкину. – А как это вышло?
На парковке Фишкин включил поворотный сигнал и уже готовился поставить машину, как вдруг автомобиль, выскочивший с другой стороны прямо из-за угла, прошмыгнул на место Фишкина. Водитель показал Фишкину средний палец и – будто этого мало – оказался Залевским!
– А ты что сделал? – спросила я.
– Й-й-й-я повернул лицо, вот так, – Фишкин повернул голову влево, – чтобы он меня не узнал. И потом отъехал.
Дома я приготовила чай и взялась за Бальзака. Но от Бабеля было никуда не деться. В одном из предисловий я нашла забавную историю, которую Бальзак рассказывал о своем отце, служившем в начале карьеры клерком у парижского прокурора, и которую вполне можно было бы озаглавить «Моя первая куропатка»: «По обычаю того времени [отец Бальзака] обедал вместе с другими клерками за столом патрона… Прокурорша, украдкой поглядывавшая на новичка, спросила его: „Господин Бальзак, умеете вы резать мясо?“ – „Да, сударыня“, – отвечал молодой человек, покраснев до ушей, и храбро схватил нож и вилку. Совершенно не зная кухонной анатомии, он разделил куропатку на четыре части, но с такой силой, что расколол тарелку, разрезал скатерть и поцарапал деревянный стол. Это было неловко, но великолепно. Прокурорша улыбнулась, и начиная с этого дня с юным клерком обращались в доме с необыкновенной мягкостью» [9] Т. Готье. Оноре де Бальзак. Пер. С. Брахман ( примеч. пер. ).
.
Как и в «Моем первом гусе», юноша приступает к новой работе, живет среди людей потенциально недружелюбной культуры и – через расчленение птицы – добивается того, что его принимают в свой круг и начинают уважать.
Эту историю пересказывает Теофиль Готье в биографии Бальзака (1859). Интересно, думала я, можно ли доказать, что Бабель читал Готье? Потом мои мысли переместились к собственному холодильнику. Тот оказался пуст. Я села в машину и уже ехала по Эль-Камино-Реал, когда зазвонил телефон. Несмотря на задорность мелодии, на экране светилось: ФРЕЙДИН.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
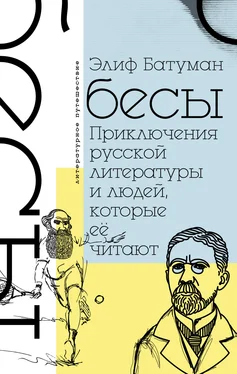

![Элиф Батуман - Идиот [litres]](/books/413334/elif-batuman-idiot-litres-thumb.webp)