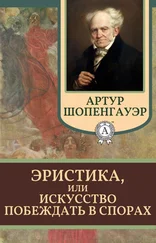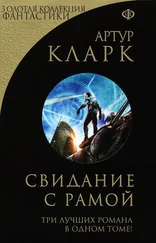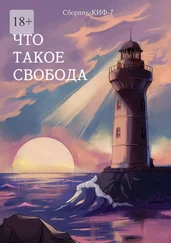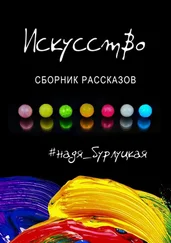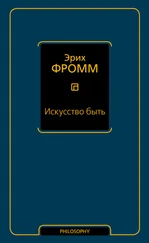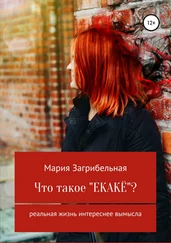Бывший генеральный директор Музеев Ватикана Карло Пьетранджели пишет в предисловии к статье о реставрации: «То же испытываешь, когда в темной комнате открывается окно, и ее вновь заливает свет». Но что, если реставрация исказила смысл того, что было видно перед открытием этого – пусть и грязного – окна? Тогда, возможно, мы на протяжении столетий заблуждались относительно истинных намерений Микеланджело. Некоторые из доводов в пользу реставрации (или против нее) были научными, некоторые – искусствоведческими. Но мне не встречалось доводов философских. Поскольку мое определение искусства задумано как философское, я хочу рассмотреть реставрацию с точки зрения того, что такое искусство в философском понимании.
Спустя несколько лет после того, как вызвавшая яростную полемику реставрация потолка Сикстинской капеллы завершилась, был выпущен альбом – настолько дорогой, что его экземпляры давались рецензентам только в аренду, причем доставлялись «особыми посланниками», как их хвастливо называли издатели. Альбом должен был ответить на критику воспроизведением той красоты, которую (предположительно) созерцали современники Микеланджело. На рекламной листовке демонстрировалось знаменитое лицо Евы в состоянии до и после реставрации, курьезно напоминающее рекламу «до/после», которая так сильно бьет по нашим тайным надеждам и страхам. Слева – лягушка, а справа – принц; слева – сорокакилограммовый дохляк, справа – мистер Вселенная, уверенный в своей выдающейся мужественности; устрашающе клювообразный нос слева и дерзко задранный носик типичной американки справа, как на замечательной картине Энди Уорхола 1961 года «До и после». В нашем случае «Ева-до» отличается от «Евы-после» главным образом благодаря слою костного клея, нанесенному на ее лицо примерно в 1710 году – то есть спустя приблизительно двести лет после того, как была завершена работа над великой росписью, – и оставленного реставраторами в треугольном секторе на щеке.
Для того чтобы оправдать формат «до/после», отличия (включая пятно) кажутся недостаточно яркими, ведь «Ева-после» не демонстрирует нам ничего, что не было бы видно в «Еве-до», да и контрольный треугольник невидим для зрителей, стоящих на полу капеллы и находящихся, соответственно, на расстоянии 21 метра от ее свода. Во времена Рисорджименто пушечный снаряд пробил потолок, отколов достаточно большой фрагмент «Всемирного потопа», но этого почти не замечают те, кто завороженно следит за перипетиями разворачивающейся над их головами грандиозной эпопеи. Если бы то, что находилось на потолке «до», сохранялось наряду с тем, что осталось на потолке «после», а разница демонстрировалась бы при помощи одновременной демонстрации двух лиц Евы, не было бы причин для разногласий. В результате подобной реставрации ничье восприятие этого лица не претерпело бы изменений. Если бы разница была очевидна, ничего существенного для интерпретации произведения не произошло бы. Лица действительно отличаются тональностью и теплотой колорита, хотя едва ли можно определить, какое из лиц лучше, а какое хуже с эстетической точки зрения. Ранний вариант больше соответствует тому, что, как мы считаем, представлял собой замысел Микеланджело, – но разве значение отличия «Евы-после» от этого замысла настолько высоко, чтобы оно могло как-то оправдать тот огромный риск, которому было подвергнуто это произведение в ходе необратимых реставрационных работ? На этот вопрос не найти простого ответа. То, что одни считали пылью времени, осевшей на потолке до того, как его вычистили, другие рассматривали как метафизический сумрак, лежащий в самой основе творческого мироощущения Микеланджело. Фигуры как будто вырываются из темноты и снова в ней тонут – точно так же, как скульптурные изображения связанных рабов, предназначавшиеся для гробницы Юлия II, вырываются и вновь утопают в камне: этот эффект придавал всему строю произведения особое героическое измерение, ныне полностью утраченное. Подобную потерю невозможно оправдать задачей восстановления первоначальной насыщенности цвета – особенно в том случае, если мы, следуя за Платоном, мыслим себя запертыми в пещере, выбраться на свет из которой удается лишь немногим счастливцам. Но если то, что казалось метафизическим преображением, было всего лишь следом воздействия свечной копоти и дыма от благовоний, тогда работа потеряла всего лишь ложное величие, приписанное ей вследствие случайного недоразумения.
Читать дальше
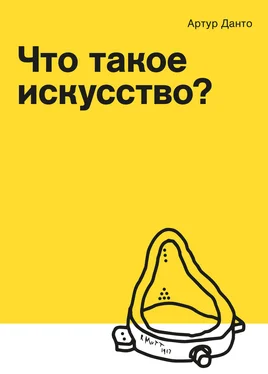

![Артур Кларк - Колыбель на орбите [сборник]](/books/58614/artur-klark-kolybel-na-orbite-sbornik-thumb.webp)