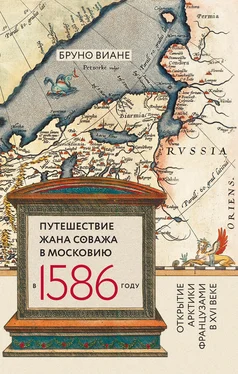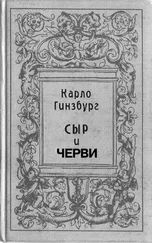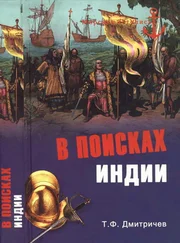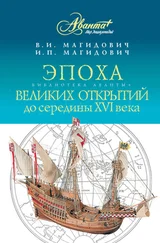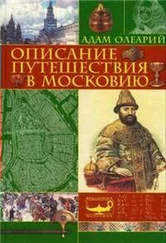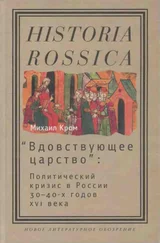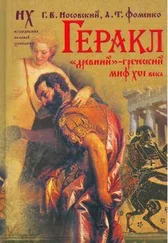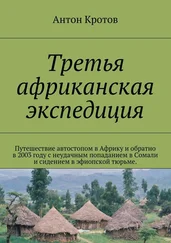1 ...7 8 9 11 12 13 ...228 С 1584 года многие иностранные купцы стали проводить каждое лето в Архангельске, а затем поселились здесь со своими семьями, оставаясь в городе на весь год или проводя зиму в Москве. Несколько семей обосновались в факториях, устроенных вдоль дороги от Москвы до Архангельска, по которой везли товары (Холмогоры, Вологда, Ярославль). Несмотря на снижение деловой активности после постройки Петербурга в 1703 году, голландцы продолжали жить в Архангельске вплоть до революции 1917 года. Именно голландцы основали многие промышленные производства, в которых нуждалась Россия, например, первый металлургический завод в Туле, который производил оружие и амуницию [21], пороховые, полотняные, бумажные и стеклодувные заводы.
Имена многих из них выдают французское происхождение: они стали частью первой волны гугенотской эмиграции, бежавшей от религиозных войн. Например, Оливье Брюнель, уроженец Брюсселя, исследовал восточную часть Белого моря и дошел до устья Оби в 1584 году; он умер на обратном пути к Печенгскому монастырю на Кольском полуострове. Назовем еще и такие фамилии, как Фожелар, де Ла Далль, де Мушерон, Ле Мэр, Дю Мулен… Они купили право рыбной ловли на Кольском полуострове и получили различные монопольные права, например, на экспорт икры (астраханская икра, происходившая из Каспийского моря, экспортировалась в Венецию через Архангельск!).
Некоторые сохраняли связи с Францией, например братья Бальтазар и Мельхиор де Мушероны, нормандцы по рождению. Вероятно, именно Мельхиор был агентом французской компании, которую учредил в Москве и Архангельске приплывший в Россию вслед за Жаном Соважем Жак Паран; возможно, о нем думал Данзей, когда писал герцогу Жуайезу: «Я постараюсь послать Вам человека, который прожил более 20 лет в Московии, хорошо умеет говорить на языке этой страны, чтобы он подробнее рассказал Вам о русских делах» [22]. Бальтазар станет инициатором двух первых путешествий Баренца в 1594 и 1595 годах.
I.8. Заманчивость Архангельского пути
Голландцы, англичане и французы оказались в Белом море неслучайно. Подобно датчанам, они с 1560-х годов вели торговлю с Россией напрямую. До взятия Нарвы русскими в 1558 году приходилось торговать через ганзейский город Ревель (Таллин); до 1558 года с Россией фактически торговали только голландцы и жители Любека [23].
С начала 1560-х годов каждый год в Нарве разгружались сотни кораблей, в том числе около десяти французских. Таким образом, можно смело предположить, что каждый десятый торгующий с Россией корабль был французским (в особенности если речь шла о соли и вине). Так как Голландия была страной-посредником, перераспределявшей товары по всей Европе, можно предположить, что и на голландских кораблях в Россию доставлялось немало французских товаров. Таким образом, начиная с 1560 года можно говорить о прямой торговле между Францией и Россией, что стало следствием взятия русскими Нарвы.
Жители Любека, голландцы, а теперь и французы экспортировали в разных количествах золото, серебро, шерсть, льняное полотно, шелк, хлопковые ткани, металлы, военные припасы, медикаменты, соль, вино, пиво, фрукты, сахар, стекло, бумагу, красящие вещества. Взамен русские могли предложить интересные европейцам товары, поскольку кроме собственного сырья (меха, жир, кожа, лен, пенька) они могли доставлять товары с Ближнего Востока по Каспийскому морю и по Волге, которую после завоевания Казанского и Астраханского ханств они полностью контролировали. Это был период, когда Россия развивалась; возник зародыш «среднего класса», начинавший интересоваться западноевропейскими товарами. Одним словом, эта торговля становилась все масштабнее, несмотря на трудности в Балтийском море: пиратство, Северную Семилетнюю войну и польско-шведскую блокаду. Но в итоге трудности плавания по Балтике и утрата русскими Ливонии в пользу Польши и Швеции (договоры 1582 и 1583 годов) привели к тому, что привычный путь морской торговли с Россией оказался заблокирован. Сухопутный же маршрут представлял интерес только для легких предметов большой ценности, например мехов. Если же учесть, что отношения между Россией и Польшей, простиравшейся от Балтийского моря до Черного, по-прежнему были напряженными, что Крымское ханство еще было весьма могущественно, а на Черном море господствовали турки, торговцам оставалась лишь одна возможность: северный путь.
Когда Балтийское море закрылось, купцы были готовы к большому плаванию вокруг мыса Нордкап, чтобы «вести торговлю с московитом». Их не пугали ни датские военные корабли, ни грозные бури Ледовитого океана, они были готовы тянуть товары на почти тысячу километров вверх по течению огромной реки, а потом преодолевать 500 километров на санях от Вологды до Москвы. Разумеется, их усилия отвечали экономической необходимости. Но Северный путь не мог в полной мере заменить старую дорогу: в начале 1580-х по нему ходило не более двадцати кораблей в год.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу