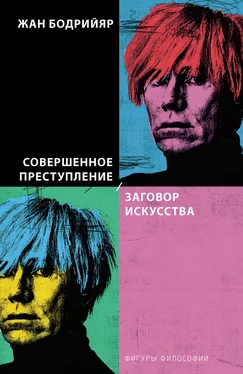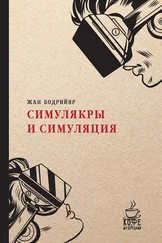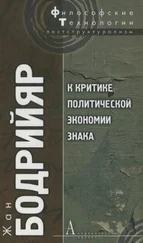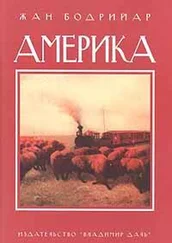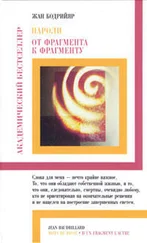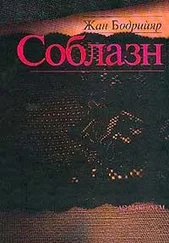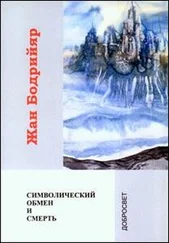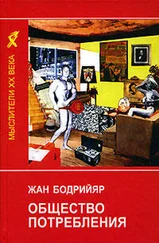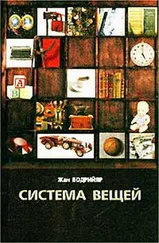Тогда как стратегия остальных – не более чем коммерческая стратегия (продвижение) ничтожности, которой придается товарный [publicitaire] вид, сентиментальная форма товара, как говорил Бодлер [145] См. главу «Абсолютный товар» в книге Бодрийяра «Фатальные стратегии».
. Они прячутся за собственным ничтожеством и за метастазами рассуждений [discours] об искусстве, которые вовсю используются [146] Игра слов: «щедро тратятся».
для того, чтобы превратить ничтожность в ценность и набить ей цену (в том числе, разумеется, и на арт-рынке). В определенном смысле это хуже, чем ничто, потому что это ничто – ничего не означает и все же существует, само предоставляя все необходимые основания для своего существования. Подобная паранойя заговорщиков от искусства делает более невозможным какое-либо критическое суждение о ничтожности, но лишь непременно доброжелательное и взаимообменное. В этом и заключается заговор искусства и его первичная сцена, состоящая из всех этих вернисажей, галерей, экспозиций, реставраций, коллекций, дарений и спекуляций, – заговор, который невозможно раскрыть ни в одном из известных миров, потому что за мистификацией образов он укрывается от всякой мысли.
Другим аспектом этого двуличия современного искусства является то, что, блефуя ничтожностью, оно заставляет людей действовать a contrario [от противного]: придавать значимость и доверие ко всему этому под предлогом того, что совершенно невозможно, чтобы это и впрямь было настолько ничем [mil], и что за всем этим должно скрываться хоть что-нибудь. Современное искусство играет на этой неуверенности и неопределенности, на этой невозможности оценочного суждения относительно его эстетических основ и спекулирует на чувстве вины тех, кто в нем ничего не понимает или не понимает того, что здесь и понимать нечего [147] Игра слов: «не понимает ничто» или «не понимает, что здесь нет ничто».
. И в этом опять же преступление посвященных. Но, в принципе, можно также предположить, что эти люди, которым искусство внушает благоговейный страх и держит в черном теле, на самом деле все понимают, потому что само их ошеломление свидетельствует о способности интуитивного понимания: понимания того, что они жертвы злоупотребления властью, того, что от них скрыли настоящие правила игры, и того, что их просто надули [148] Обмануть, надуть (фр. faire un enfant dans le dos) – буквально: «родить ребенка против воли отца».
. Другими словами, искусство включилось (не только в финансовом аспекте арт-рынка, но и в плане менеджмента самими эстетическими ценностями) в глобальный процесс преступления посвященных. И не оно одно: политика, экономика, информация используют то же соучастие и ту же ироническую безропотность со стороны своих «потребителей».
«Наше восхищение живописью является результатом длительного процесса адаптации, продолжающегося столетиями, и происходит оно по причинам, которые очень часто не имеют ничего общего ни с искусством, ни с рассудком. Живопись создала своего зрителя [récepteur]. По сути, это конвенционные [149] Конвенционность (договор, соглашение) – субъективно-идеалистическая философская концепция, согласно которой научные понятия и теоретические построения являются продуктами соглашения между людьми.
отношения» (Гомбрович в переписке с Дюбюффе [150] Гомбрович, Витольд (1904–1969) – польский писатель и эксцентрик. Дюбюффе, Жан (1901–1985) – французский художник и скульптор. Основоположник ар-брют – «грубого», или «сырого», искусства, принципиально близкого к любительской живописи детей, самоучек, душевнобольных и использующего любые подручные материалы.
).
Вопрос только в том, сможет ли такого рода механизм по-прежнему функционировать в ситуации критической дезиллюзии и коммерческого безумия? И если сможет, то сколько еще продлится этот иллюзионизм и оккультизм – сто лет, двести? Или же искусство получит право на вторую жизнь, бесконечную, вроде секретных служб, у которых, как известно, уже давно нет секретов, достойных того, чтобы их похищать или ими обмениваться, но которые тем не менее процветают за счет предрассудков о своей полезности и по-прежнему становятся предметом вырастающих до мифов кривотолков.
Libération, 20 мая 1996 года
Эстетическая иллюзия как эстетическая дезиллюзия [151] Изначально этот текст должен был войти в книгу «Совершенное преступление», но заметив некоторый перекос в сторону искусства, а также большой интерес к теме, Бодрийяр издал эссе сначала в журнале, а затем отдельной брошюрой. В следующих изданиях к тексту был добавлен манифест «Заговор искусства», а позднее – избранные интервью по поводу этого манифеста.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу