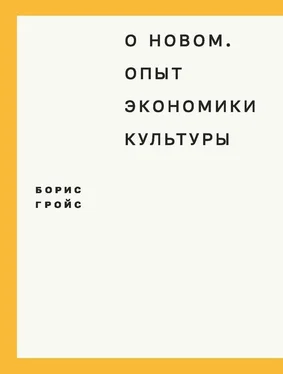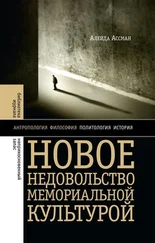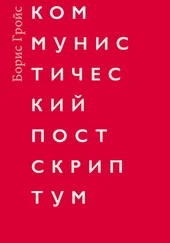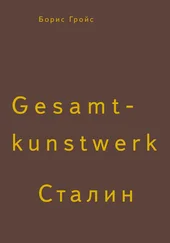Сегодня распространено мнение, что отношение к новому в Новое и Новейшее время в корне изменилось и стало полностью апологетическим [13]. Однако эти изменения в действительности не столь радикальны, как могут показаться. Мышление в Новое и Новейшее время, в отличие от мышления большей части предшествующих столетий, исходит из того, что универсальная истина способна открыться не только в прошлом, но и в настоящем или будущем. Иными словами, истина – как смысл, сущность, бытие и т. д. – проявляет себя в реальности, по ту сторону традиции. Поэтому в этот исторический период человек склонен ждать и надеяться, что ему откроется эта новая истина и освободит его из-под гнета прошлых ошибок. Но и в эту эпоху такая открывающаяся со временем истина понимается как вечная и вневременная. Следовательно, такая истина, как только она будет явлена впервые, подлежит сохранению для будущего. В этом причина того, что будущее в модернистском сознании выглядит приблизительно так же, как раньше представляли себе прошлое: гармоничным, неизменным и подчиненным единой истине.
Утопизм модерна – своего рода консерватизм будущего. Не случайно это утопическое сознание приветствовало разрушительную работу, совершаемую войнами и революциями: жестокие разрушения исторических архивов не могли повредить заново открытой универсальной истине, но лишь очищали и освобождали ее от бремени прошлого. Если местом истины является сама реальность, то ликвидация традиции на самом деле этой реальности как минимум не повредит. Поэтому модернистские идеологии занимали крайне консервативную позицию с того самого момента, как им удавалось прийти к власти, – как, например, до недавнего времени в СССР. Они полагали, что им удалось достичь истины, завершить ход истории собственным триумфом и ничто новое отныне уже не будет возможным. В действительности, однако, незамедлительно восстанавливались архаические структуры мышления [14].
Ориентация на истину, открывающуюся с течением времени, в определенном смысле еще более усиливает претензии этой истины на изначальность и до-временность. Подобное понимание истины встречается уже у Платона: душа вспоминает истину, данную ей еще до ее рождения, до начала традиции, до начала мира как такового. Новая истина здесь проявляет себя как еще более древняя и еще более изначальная, чем любая существующая в культуре традиция. Понимание новой истины как истины, еще более первородной, нежели любое устное или письменное культурное предание, распространено и в мышлении Нового и Новейшего времени. Как философия, так и искусство этого периода начинают стремиться к чему-то, что существует безотносительно от хода времени. Они находятся в поиске фундаментальных логических форм и структур восприятия, языка, эстетического переживания и т. д. Ницше и Фрейд, например, оперируют древней мифологией, Маркс призывает на новой стадии развития вернуться к исходному состоянию общества, в котором не было еще частной собственности. Искусство эпохи модерна обращается к культуре примитивных народов, к элементарному и детскому [15]. Обе этих установки – и понимание нового как чего-то предшествовавшего любому историческому периоду, и требование к истине быть «изначальнее» всех последующих заблуждений – не сильно изменились в эпоху модерна.
В качестве отправной точки философии Нового времени принято называть картезианское «Я мыслю, следовательно, я существую». Вооружившись этим девизом, Декарт предпринял попытку выйти за пределы всего того, что может быть подвергнуто сомнению, а следовательно, с исторической точки зрения может оказаться чересчур нестабильным для того, чтобы выстроить на таком фундаменте методологический конструкт, с помощью которого можно было бы создать будущее, зиждущееся на единых рациональных, всеобщих и неизменных основах [16]. К той же цели стремились и наиболее влиятельные направления в искусстве. Достаточно только вспомнить радикальное методологические сомнение в устойчивости художественных форм, которое средствами самого искусства манифестировали, например, Малевич или Мондриан. Оба этих художника пытались выявить формальную структуру любого возможного изображения за пределами его исторических форм, чтобы в итоге объявить эту впервые выявленную формальную структуру универсальным художественным стилем будущего [17].
Мышление и культура Нового времени готовы встать в оппозицию прошлому, но не готовы встать в оппозицию будущему, понимаемому ими как область, подпадающая под их ничем не ограниченную экспансию. Будущее здесь рассматривается просто как продолжение настоящего, так же как ранее настоящее рассматривалось просто как продолжение прошлого. Это же можно сказать и о тех теориях Нового времени, которые стремились максимально соответствовать требованиям историчности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу