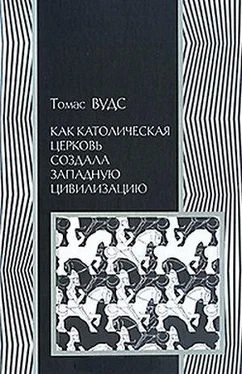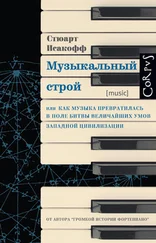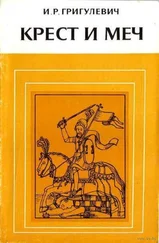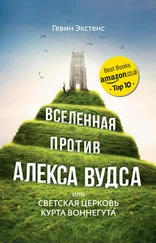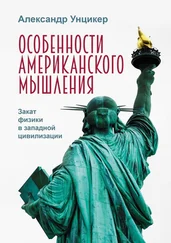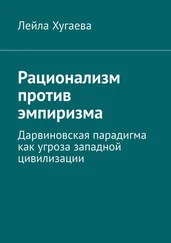Создание правительства не решает проблему, которую описывал Гоббс, а просто сдвигает ее на другой уровень. Правительство может воспрепятствовать несправедливости и обеспечить мир среди тех людей, которыми оно правит. Однако это значит, что по отношению к правительству люди находятся в естественном состоянии, так как не существует третейского судьи, стоящего одновременно и над правительством, и над народом. Если правительство обладает полномочиями, суверенной властью, как рекомендует Гоббс, это значит, что ему принадлежит последнее слово в вопросе о границах его собственных полномочий, в установлении того, что правильно, а что неправильно, и даже в разрешении споров между ним самим и отдельными гражданами. Даже если бы Гоббс верил в демократию, простого голосования недостаточно, чтобы обуздать столь могущественный институт. Но если создать над правительствами и народами еще один орган власти, который должен будет предотвращать злоупотребление властью со стороны правительств, это просто переведет проблему на следующий уровень, поскольку над этим новым органом тоже ни у кого не будет власти.
Это лишь одна из проблем, порождаемых существованием международного института, наделенного полномочиями на обеспечение международного права посредством принуждения. Сторонники этой идеи утверждают, что такой орган власти освободит государства от гоббсовского естественного состояния, в котором они продолжают пребывать. Однако после создания такого института полной защищенности все равно достичь не удастся, ведь государства окажутся в естественном состоянии по отношению к новой власти, которую они не смогут ограничивать.
Таким образом, обеспечение функционирования международного права на практике представляет собой непростую задачу, и создание с этой целью глобального института просто переносит сформулированную Гоббсом проблему на следующий уровень. Однако есть и другие возможности. В конце концов, в течение двух столетий после окончания Тридцатилетней войны (1618–1648) передовым странам удавалось соблюдать правила так называемого цивилизованного ведения войны. Это означает, что угроза остракизма может восприниматься вполне серьезно.
Каковы бы ни были практические трудности, возникающие в ходе применения международного права, эта идея, первоначально возникшая в ходе философской дискуссии о последствиях открытия Америки, имеет очень важное значение. Из нее следует, что отдельно взятое государство в моральном отношении не является замкнутой вселенной и его действия должны быть ограничены базовыми принципами, к которым пришли по взаимному соглашению цивилизованные народы. Иначе говоря, государство не обладает моральной автономией.
В начале XVI века Николо Макиавелли в небольшой работе «Государь» (1513) предсказал появление государства современного типа. С его точки зрения, государство как раз является автономным в моральном отношении институтом, и его действия, направленные на самосохранение, не могут быть предметом оценки в соответствии с внешним по отношению к нему критерием, например на основе папских предписаний, какого-либо морального принципа или свода принципов. Неудивительно, что Католическая церковь крайне негативно восприняла политическую философию Макиавелли: именно такие взгляды страстно и убежденно опровергали испанские теологи. С их точки зрения, государство вполне можно судить с точки зрения внешних по отношению к нему самому принципов. Государство, считали они, не должно действовать, исходя из соображений чистой целесообразности или практической пользы, если его действия противоречат принципам морали.
Испанские теологи XVI века подвергли действия своей цивилизации критическому анализу и нашли их неудовлетворительными. Они заявили, что в вопросах естественных прав другие народы равны испанцам и что с политическими образованиями языческих народов следует обращаться также, как христианские государства Европы обращаются друг с другом. То, что католические священники дали западной цивилизации философский инструментарий, позволяющий рассматривать незападные народы в духе равенства, само по себе поразительно. Если рассмотреть эпоху великих географических открытий в соответствии с адекватным пониманием исторических реалий, то мы придем к выводу, что способность испанцев объективно воспринимать чуждые племена и считать аборигенов частью человеческого рода была немалым достижением, особенно на фоне той зашоренности, которая так часто характеризует отношение одного народа к другому.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу