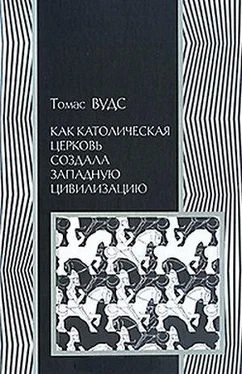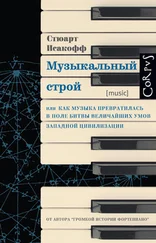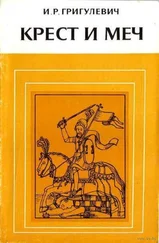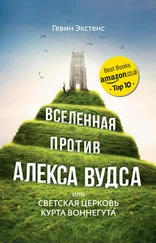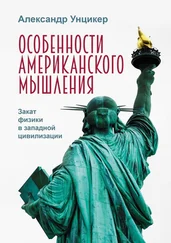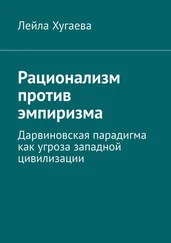Теоретическая открытость Беллармина и его готовность по-новому интерпретировать Писание в свете нового приращения человеческого знания отнюдь не была чем-то нетипичным для Католической церкви. Примерно того же мнения придерживался и св. Альберт Великий. Он писал: «Весьма часто бывает так, что некий нехристь имеет глубокие познания в делах земли, неба и других сущностей мира сего, основанные на разумном рассуждении или наблюдении, и вельми прискорбно и недушеполезно, ежели христианин, рассуждающий о сих предметах в меру своего понимания Писания, оказывается столь далек от истины, как запад далек от востока, и несет такую чушь, что тем становится нехристям в посмеяние; того же следует всячески избегать». [131]Св. Фома Аквинский тоже предупреждал о том, что не следует цепляться за конкретное толкование Библии, если появились серьезные причины считать, что это толкование ложно: «Во-первых, Писание есть непогрешимая истина. Во-вторых, когда имеется несколько способов толкования слова Писания, не следует настаивать на непогрешимости одного из них, дабы в случае появления убедительных аргументов, доказывающих его ложность, никто не осмелился бы утверждать, что сие толкование по-прежнему совершенно. В противном случае неверующие будут презирать Священное Писание и путь к истине закроется для них». [132]
Несмотря на все это, в 1616 году, после того как Галилей начал громко и настойчиво проповедовать учение Коперника, церковные власти сообщили ему, что он не должен объявлять это учение абсолютной истиной, хотя и волен пропагандировать эту теорию в качестве гипотезы. Галилей согласился на это и продолжил свои занятия.
В 1624 году он еще раз посетил Рим, где его снова приняли с большим энтузиазмом, а влиятельные кардиналы с удовольствием обсуждали с ним научные проблемы. Папа Урбан VIII осыпал его знаками внимания, дал ему две медали и взял его научные труды под свое покровительство. Папа отзывался о Галилее как о человеке, «чья слава сияет в небесах и простирается по всему миру». Урбан VIII сказал ученому, что Католическая церковь никогда не провозглашала учение Коперника еретическим и никогда не сделает этого.
Опубликованный в 1632 году трактат Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира» был написан по просьбе папы; однако автор проигнорировал рекомендацию рассматривать систему Коперника не как истину, а как гипотезу. Бытует мнение, что годы спустя о. Гринбергер говорил, что если бы Галилей относился к своим выводам как к гипотезе, то этот великий астроном мог бы писать все что угодно. [133]К несчастью для Галилея, в 1633 году он попал под подозрение в ереси и ему было запрещено публиковать работы о системе Коперника. Астроном продолжал много и плодотворно работать, в частности написал книгу «Беседы и математические доказательства двух новых наук» (1635). Однако сам факт неразумной цензуры запятнал репутацию Католической церкви.
Тем не менее не следует преувеличивать значение этого факта. Вот что пишет Дж. Хейлброн: «Просвещенным современникам было ясно, что упоминание о ереси в связи с Галилеем и Коперником не имело ни универсального, ни теологического значения. В 1642 году Гассенди заметил, что решение кардиналов – вещь важная, но отнюдь не догмат веры; Риччоли в 1651 году утверждал, что гелиоцентризм не является ересью; Менголи в 1675 году выражал мнение, что католики обязаны разделять только те толкования Библии, которые приняты церковными соборами, а Бальдиджани в 1678 году писал, что все это известно каждому». [134]
В реальности исследователи-католики действительно не испытывали помех в своей работе, если рассматривали вращение Земли как гипотезу (к чему призывал папский эдикт 1616 года). Эдикт 1633 года уже предписывал исключить любое упоминание о вращении земли из научных дебатов. Однако известно, что ученые-католики, в частности о. Руджер Бошкович, продолжали использовать в своей работе эту гипотезу, и поэтому современные исследователи предполагают, что эдикт 1633 года был направлен «против Галилео Галилея лично», а не против всего католического научного сообщества. [135]
Безусловно, осуждение Галилея, даже если рассматривать эту историю в ее реальном контексте и не удовлетворяться жуткими картинами, обычно создаваемыми воображением журналистов, сослужило Католической церкви медвежью услугу, создав миф о ее враждебности науке.
Господь «все расположил мерою, числом и весом»
Начиная с работ Пьера Дюгема, [136]опубликованных в начале XX века, историки науки стали все больше подчеркивать ту важнейшую роль, которую Католическая церковь сыграла в развитии науки. К сожалению, до широкой публики эти результаты исследований практически не дошли. Так бывает нередко. К примеру, большинство людей до сих пор считают, что промышленная революция привела к резкому снижению уровня жизни рабочих, тогда как на самом деле средний уровень жизни вырос. [137]Истинная роль Католической церкви в процессе развития современной науки тоже остается для широкой аудитории, по сути дела, тайной за семью печатями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу