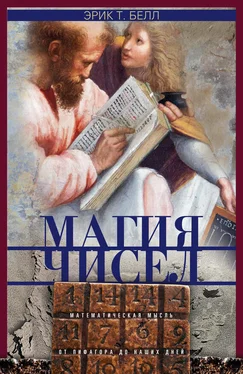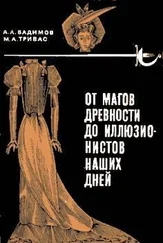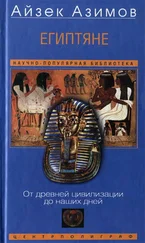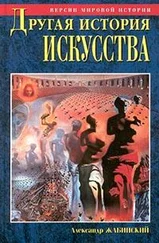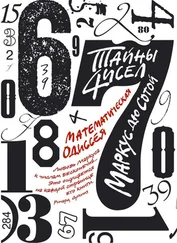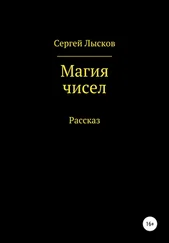Не все выдающиеся математики XVIII столетия были настолько довольны собой и своими работами, как Лаплас. В величайшем из них, Лагранже, убедительные достижения сочетались с умеренным скептицизмом. Как следствие ему не принадлежат никакие громкие декларации о судьбе вселенной. Когда его пытались раззадорить и спровоцировать объявить себя пророком, Лагранж обескураживал приставучих простым заявлением «Я не знаю». Лаплас был более известен тем, что не завоевывал общественное мнение и предоставлял другим свергать себя с пьедестала, если у тех на то хватит сил. У некоторых хватало.
Один из тех, кто пошатнул его понтификат, сэр Джордж Биддель Эйри (1801–1892), заслуживает бессмертия за свое глубокое наблюдение, что вселенная является вычислительным устройством на вечном двигателе, чьи шестерни и маховики представляют собой бесконечную систему саморешаемых дифференциальных уравнений. Каждый атом во вселенной существует исключительно потому, что уравнения вселенной обеспечивают его существование. Взамен этого неопределенного дара существования атом в своем блуждающем движении уничтожает уравнения, удостоверяющие его существование. Романтичная математика космоса Эйри была версией XIX века древнего мифа математического постоянства, замаскированного под чувственный опыт как хаотический поток. Пифагор стоял на пороге возвращения.
Именно физика наконец сделала пифагореизм приемлемым для конкретного типа современного научного мнения. Чтобы увидеть, как это случилось, мы должны кратко рассмотреть некоторые из наиболее захватывающих предсказаний физики и астрономии XIX и XX веков. Существуют три вида предсказания математической физики и астрономии.
Первые относятся к известному явлению и предсказывают, каково будет его численное измерение при некоторых предписанных условиях. То есть предсказание количественно в отношении чего-то уже известного качественного.
Многие из опытов на любом хорошем лабораторном оборудовании в кабинете физики средней школы разработаны, чтобы скрыть этот тип предсказания от учащихся. Новичок знает, например, что свет отражается от простого плоского зеркала и от него требуется проверить «закон», что угол падения равен углу отражения. Если бы он был знаком с математической теорией света, он обошелся бы без лабораторного опыта, но тогда в нем не было бы ничего от экспериментального физика. Этот первый тип предсказания определяет «меру» (число) качественного явления.
Во втором и более редком виде предсказания явления, до настоящего времени ненаблюдаемые, исходят из математической формулировки теории. Предсказание в этом случае качественно, и ни теория, ни соответствующая математика недостаточно развиты, чтобы предвидеть меру нового явления. Волновая теория света, например, на более ранних стадиях могла предположить некоторые из наблюдаемых фактов, связанных с поляризованным светом, но не смогла снабдить их последующим количественным счетом.
Третий и редчайший тип предсказания объединяет в себе первые два. Что-то качественно новое предсказано, и одновременно дана количественная оценка ненаблюдаемого явления. Когда такие допущения проверены в лаборатории, они кажутся почти столь же удивительными и чудесными, как успешные усилия древних пророков. В подобных случаях чистый разум, видимо, показывает современному пифагорейцу такие факты относительно физической вселенной, в открытии которых чувственный опыт не имел к этому никакого отношения. В этом и заключена основная суть спора.
Действительно ли даже самые загадочные из предсказаний третьего вида были полностью независимы от предыдущего опыта, полученного чувствами в мире чувств? Тут мнения разделяются.
Пифагорейцы утверждают, что предсказания независимы от чувственного опыта: разум, создавая их, просто получает обратно от гипотетической внешней вселенной то, что сам разум и поместил в эту воображаемую вселенную, пребывая в заблуждении, что наблюдает нечто независимое от себя. Другая сторона подозревает, что без некоторых, полученных из наблюдений пусть и весьма тривиальных, на которых базируется математическая (или эпистемологическая) теория для любого диапазона, явлений эта теория была бы обязательно поверхностна без наблюдаемого и фактического содержания. На что пифагорейцы отвечают, что ученый-экспериментатор, обладающий якобы эмпирическим знанием фактов, знает не больше о «реальном мире», чем котенок, гоняющийся за своим хвостом. «Вы можете забрать только то, что вы ранее положили, – повторяют они, – не больше и не меньше. Так почему же столько шумихи вокруг того, что вы в состоянии обнаружить вашими чувствами больше, чем сумели бы отыскать в ходе своих собственных рассуждений?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу