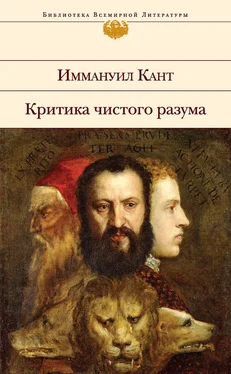Вместо термина mundus intelligibilis не следует употреблять термин интеллектуальный мир, как это обычно делается в немецких сочинениях; в самом деле, рассудочными (intellectuell) или чувственными (sensitiv) бывают только знания. Наоборот, сами объекты, т. е. то, что может быть только предметом одного или другого способа созерцания, должны называться (хотя бы это и казалось тяжеловесным) умопостигаемыми (intelligibel) или чувственно воспринимаемыми (sensibel).
Если бы кто хотел прибегнуть здесь к обычной уловке, а именно сослаться на то, что по крайней мере realitates noumena не могут действовать друг против друга, тот должен был бы привести пример такой чистой и внечувственной реальности, чтобы можно было понять, представляет ли она собой вообще что-то или она ничего не представляет. Между тем мы не можем привести ни одного примера иначе как из опыта, который никогда не доставляет ничего иного, кроме phaenomena; это положение, оказывается, означает лишь, что понятие, содержащее одни лишь утверждения, не содержит никаких отрицаний, но в этом положении никто и не сомневался.
Чувственность, положенная в основу рассудка как объект, к которому рассудок применяет свои функции, есть источник реальных знаний. Но та же самая чувственность в той мере, в какой она влияет на деятельность рассудка и побуждает его к построению суждений, становится основанием заблуждения.
Он распространял, правда, свое понятие [идеи] также на спекулятивные знания, если только они были чисты и априорны, и даже на математику, хотя она имеет свои объекты лишь в возможном опыте. В этом отношении я не могу следовать за ним, точно так же как не могу согласиться с его мистической дедукцией идей и с преувеличениями, которые привели его как бы к гипостазированию идей; впрочем, возвышенный язык, которым он при этом пользовался, вполне допускает более спокойное и более соответствующее природе вещей изложение.
Мышление берется в обеих посылках в совершенно разных значениях.
Ясность не есть, как утверждают логики, осознание того или иного представления; в самом деле, определенная степень сознания, недостаточная, однако, для воспоминания, должна быть даже в некоторых неясных представлениях, так как, не имея никакого сознания, мы бы не могли находить никаких различий в соединении неясных представлений, между тем мы можем это сделать в отношении признаков многих понятий (как, например, понятий права и справедливости или музыканта, когда он, фантазируя, берет сразу много нот). Ясным бывает то представление, в котором достаточно сознания для осознания отличия его от других представлений. Если сознания достаточно для различения, но не для осознания различий, то представление должно еще называться неясным. Следовательно, существует бесконечно много степеней сознания вплоть до исчезновения его.
Тех, кто полагает, будто для того, чтобы выдвинуть новую возможность, достаточно настаивать на том, что в их предпосылках нельзя указать никакого противоречия (как, например, те, кто полагает, будто мышление, пример для которого они находят только в эмпирических созерцаниях в человеческой жизни, возможно также после смерти человека), можно поставить в весьма затруднительное положение ссылкой на другие возможности, задуманные не менее смело. Таковы, [например], возможность деления простой субстанции на несколько субстанций и, наоборот, слияние (коалиция) нескольких субстанций в одну простую. В самом деле, хотя делимость предполагает нечто сложное, тем не менее для нее не обязательно требуется нечто сложенное из субстанций – для нее необходимо требуется лишь сложность степеней (различных способностей) одной и той же субстанции. Подобно тому как все силы и способности души, не исключая способности сознания, можно мыслить себе исчезнувшими наполовину, так, однако, что субстанция все еще остается, точно так же можно без всяких противоречий представить себе и эту утраченную половину как сохранившуюся, но не внутри, а вне субстанции; но так как здесь все реальное в субстанции, следовательно, все имеющее в ней степень, т. е. все бытие ее без остатка, разделено пополам, то в этом случае вне субстанции возникла бы отдельная субстанция. В самом деле, множественность, подвергнутая делению, существовала уже раньше, но как множественность не субстанции, а всякой реальности как количества бытия в ней; при этом единство субстанции было лишь способом существования, который этим делением превратился в множественность субсистенции. Но точно так же несколько простых субстанций могло бы опять слиться в одну субстанцию, причем ничто, кроме множественности субсистенции, не было бы утрачено, так как одна субстанция содержала бы в себе степень реальности всех прежних субстанций. Быть может, простые субстанции, являющиеся нам в виде материи (конечно, не путем механического или химического воздействия друг на друга, а посредством неизвестного нам воздействия, лишь проявлением которого было бы механическое или химическое воздействие), путем такого динамического деления душ родителей как интенсивных величин производят души детей и затем пополняют свою убыль путем слияния с новым веществом того же рода. Я вовсе не склонен придавать подобным вымыслам какую-нибудь вескость или значимость, тем более что изложенные выше принципы аналитики достаточно подтвердили, что категории (как, например, категория субстанции) могут иметь применение только в области опыта. Но если рационалист настолько дерзновен, что превращает одну лишь способность мышления без всякого постоянного созерцания, посредством которого был бы дан предмет, в самостоятельную сущность только потому, что единство апперцепции в мышлении не дает ему объяснения исходя из сложного, и не замечает, что лучше было бы признаться в неумении объяснить возможность мыслящей сущности, то почему же материалист, хотя бы он в такой же мере мог сослаться на опыт для подтверждения указанных им возможностей, не имеет права на подобную же дерзновенность, чтобы воспользоваться своим основоположением для противоположного применения, сохраняя при этом то формальное единство, из которого исходит рационалист?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу