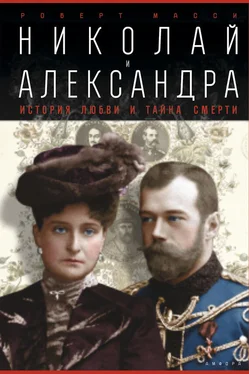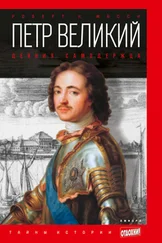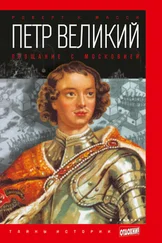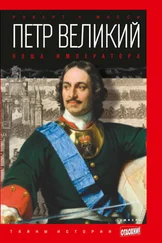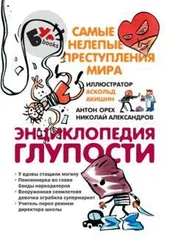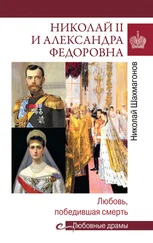Несмотря на огромные потери, понесенные минувшей осенью, весной 1915 года русская армия вновь была готова сражаться. Численность ее, упавшая к декабрю 1914 года до двух миллионов человек, с прибытием на фронт пополнений превысила четыре миллиона. В марте русские возобновили наступление в Галиции, которое увенчалось блестящей победой. 19 марта пал Перемышль, самая неприступная крепость во всей Австро-Венгрии. Было захвачено сто двадцать тысяч пленных и девятьсот орудий. «Запыхавшись, ко мне в вагон прибежал Николаша [великий князь Николай Николаевич] и сообщил мне эту новость, – писал государь. – В храме на молебен собрались офицеры и мои великолепные лейб-казаки. Какие сияющие лица!» Обрадованный, император наградил генералиссимуса Георгиевским оружием, украшенным бриллиантами. В начале апреля Николай II лично посетил завоеванную провинцию. Ехать пришлось по пыльным дорогам. Прибыв в Перемышль, император «проехал… мимо фортов, укреплений, батарей и редутов и поражался огромному количеству орудий и всяких боевых припасов». Во Львове ночевал в губернаторском доме на кровати, предназначавшейся для кайзера Франца-Иосифа.
И снова части русской пехоты и кавалерии устремились к Карпатам. Поросшие лесом склоны гор отчаянно защищали отборные части венгров. Из-за нехватки артиллерии и боеприпасов русские не имели возможности производить артиллерийскую подготовку. Каждую возвышенность, каждый перевал, каждый выступ приходилось брать в штыковом бою. Наступая, по словам Людендорфа, «с полнейшим презрением к смерти», русские пехотинцы поднимались по склонам, оставляя за собой кровавый след. К середине апреля карпатские перевалы оказались в руках русских. 8-я армия генерала Брусилова вышла в долину Дуная. И снова Вена затрепетала от страха, снова пошли разговоры о сепаратном мире. 26 апреля Италия, уверенная, что близится крах империи Габсбургов, объявила войну Австро-Венгрии.
И именно в этот момент Гинденбург и Людендорф нанесли страшный удар, который они готовили в течение нескольких месяцев. Не сумев разбить в 1914 году Францию, германский Генеральный штаб решил в 1915 году вывести из войны Россию. В продолжение марта и апреля, пока русские громили австрийцев в Галиции и на Карпатах, германские генералы перебрасывали войска и артиллерию к южной части Польши. 2 мая немцы обрушили огонь полутора тысяч орудий на один-единственный участок русских позиций. За четыре часа было выпущено семьсот тысяч снарядов.
«На расстоянии восьми километров по обе стороны находившейся поблизости высоты видна была сплошная огненная стена, – писал сэр Бернард Пэйрс, наблюдавший за обстрелом. – Русская артиллерия по существу молчала. Примитивные окопы русских вместе с теми, кто в них укрывался, были, по сути дела, смешаны с землей. Из шестнадцати тысяч солдат, находившихся в составе дивизии, уцелело всего пятьсот».
Под этим смертоносным градом снарядов линия обороны русских была прорвана. Подкрепления доставлялись эшелонами прямо к месту боевых действий и выгружались под огнем противника. Брошенный в прорыв 3-й Кавказский корпус, насчитывавший сорок тысяч бойцов, спустя короткое время уменьшился до шести тысяч, но даже эта горстка в ночном штыковом бою взяла в плен семь тысяч германцев. 3-я армия, принявшая на себя основной удар неприятеля, по словам ее командующего, истекла кровью. 2 июня пала крепость Перемышль. 23 июня был сдан Львов. «Бедный Н[иколаша], рассказывая все это, плакал в моем кабинете и даже спросил меня, не думаю ли я заменить его более способным человеком… – писал император. – Он все принимался меня благодарить за то, что я остался здесь, потому что мое присутствие успокаивает его лично».
Отступая, русские солдаты теряли или бросали винтовки. Нехватка оружия стала столь ощутимой, что один офицер предложил вооружить отдельные батальоны насаженными на длинные черенки топорами. «Представьте себе, что во многих пехотных полках… треть людей, по крайней мере, не имела винтовок, – докладывал из Ставки генерал Беляев. – Эти несчастные терпеливо ждали под градом осколков гибели своих товарищей впереди себя, чтобы пойти и подобрать их оружие… Наша армия тонет в собственной крови». Находившиеся во второй линии окопов безоружные солдаты под градом фугасных и осколочных снарядов превращались в кровавое месиво. «Знаешь, барин, – сказал один пехотинец сэру Бернарду Пэйрсу, – мы своей грудью защищаем позиции, другого оружия у нас нет. Это не война, а бойня».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу