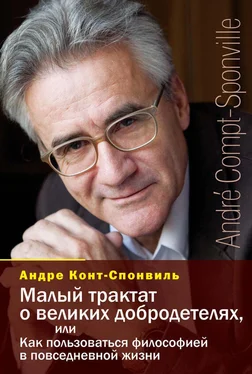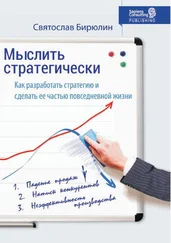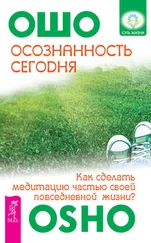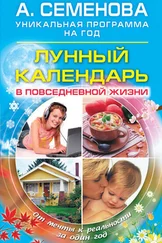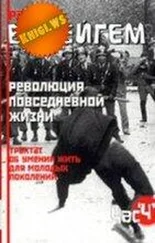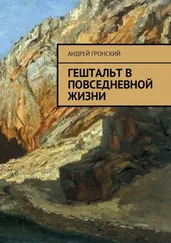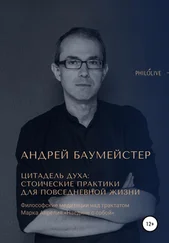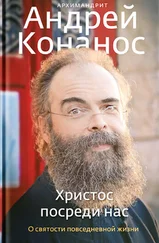Силой самолюбия объясняется и то, почему благодарность – такое редкое и трудное чувство (все прекрасное так же трудно, как и редко, отмечал Спиноза). Каждый человек в ответ на любовь стремится возвыситься в собственных глазах, то есть проявить самолюбие, а не испытать благодарность, то есть любовь к другому. «Гордыня не желает никому быть обязанной, – говорит Ларошфуко, – а самолюбие никому не желает платить» («Максимы», 228). Тому, кто умеет любить только себя, восхищаться только собой и прославлять только себя, трудно не быть неблагодарным. Благодарность предполагает скромность, а скромность – чрезвычайно редкое качество. Является ли скромность унынием? Спиноза уверяет, что да, и в следующей главе мы остановимся на этом подробно. Пока же отметим, что один из уроков благодарности заключается в том, что может быть и радостная скромность, как и скромная радость – та, что точно знает, что не является причиной самой себя, но это нисколько не мешает ей радоваться, даже наоборот (какое удовольствие говорить людям спасибо!). Подобная скромность есть любовь, и не любовь к себе, так как она сознает, что выступает в роли должницы, хотя никто не требует от нее возвращения долга. Она ощущает себя довольной сверх всяких ожиданий, потому что на свете существует то, что ее вызывает. Это может быть Бог (для человека верующего), весь мир, друг, незнакомец, это может быть кто угодно, но главное здесь – чувство, что ты являешься объектом чьей-то благожелательности. Это может быть само существование, или жизнь, или все сущее, но в нем главное – то, что оно отдает, без причины, безадресно, просто потому, что отдавать приятно, приятно видеть чужую радость, приятно радоваться чужой любви, причины которой всегда выше нас, но благодаря им мы живем. Вспомним скромность Баха и Моцарта. Они были очень разными людьми, но есть нечто, что их объединяет, – истинная простота, почти сверхчеловеческая мощь, потрясающая безмятежность – даже в тревоге, даже в страдании – и ошеломляющая, счастливая благодарность миру. Радость, которую испытываешь, погружаясь в их музыку, как мне кажется, передает суть благодарности, которая есть сама радость, притом радость незаслуженная. Да, именно так. То, о чем пишет в «Этике» Спиноза, слышится в музыке, особенно в музыке Баха и Моцарта (у Гайдна мне больше слышатся вежливость и великодушие; у Бетховена – храбрость; у Шуберта – мягкость; у Брамса – верность). Это красноречиво свидетельствует о том, на какой высоте находится благодарность – добродетель вершины, предназначенная скорее для великанов, нежели для карликов. Но это не значит, что мы должны обходиться без благодарности. Скажем спасибо тем, кто прославляет благодарность и возвышает ее!
Ни один человек не является причиной самого себя – дух в вечном долгу перед бытием. Но можно возразить, что ведь никто не просил быть (долг – это то, что берешь взаймы, а не получаешь даром) и никто не в состоянии расплатиться с подобным долгом. Жизнь не дается взаймы – жизнь это благодать, бытие это благодать, и таков главный урок, преподаваемый нам благодарностью.
Благодарность радуется тому, что было или есть. Она противоположна сожалению и ностальгии по прошлому, а также надежде и страху, которые мечтают и боятся будущего. Его еще нет и, может быть, никогда не будет, но оно терзает их даже своим отсутствием. Благодарность и беспокойство суть два полюса. На одном – радость от того, что было, на другом – страх от того, что может произойти. «Жизнь безумца, – говорит Эпикур, – неблагодарна и беспокойна: она вся целиком направлена на будущее». Так он и живет – неспособный успокоиться, вечно всем недовольный, никогда не изведавший счастья; он не живет, а готовится жить, надеется жить и вечно сожалеет о том, что пережил, а еще чаще – о том, что пережить не удалось. Он тоскует и по прошлому, и по будущему. Напротив, мудрец радуется тому, что живет, но и тому, что уже пожил. Благодарность – это радость памяти и любовь к прошлому. Не страдание о том, чего больше нет, не сожаление о том, что так и не сбылось, но радостное воспоминание о том, что было. Это своего рода возвращенное время, которое, как говорил Пруст, внушает безразличие к идее смерти, потому что даже смерть бессильна отобрать у нас то, что мы уже пережили, – наши, по выражению Эпикура, «бессмертные блага». Не потому, что мы не умрем, а потому что смерть не в состоянии сделать бывшее небывшим. Смерть лишает нас только будущего, а будущего не существует. Благодарность освобождает нас от страха смерти, наделяя радостным знанием о том, что уже было, уже состоялась. Признательность основана на знании (в отличие от надежды, основанной на воображении), вот почему она приближается к истине, которая вечна. Благодарность – это радость вечности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу