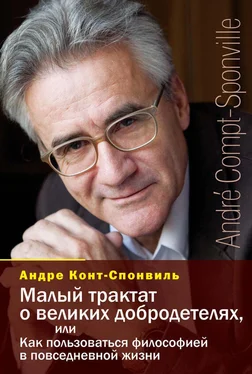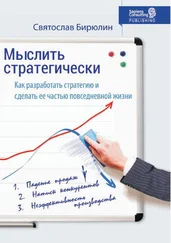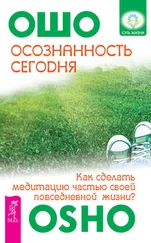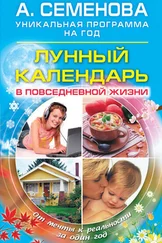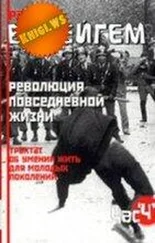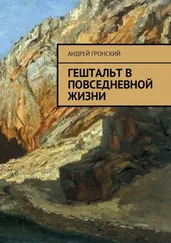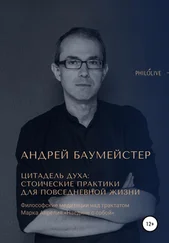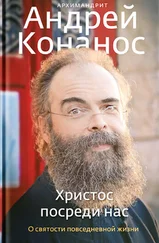Главное, разобраться, что превращает двух человек в пару. Разумеется, только сексуальная связь, пусть даже регулярная, для этого недостаточна. Как не достаточно и совместного проживания, даже продолжительного. Супружеская пара, в том смысле, какой я вкладываю в это понятие, объединена любовью, и любовью продолжительной. Следовательно, она хранит верность, потому что любовь может длиться только при том условии, что является продолжением страсти (слишком кратковременной, чтобы успеть образовать пару, но достаточно продолжительной, чтобы ее разрушить) при помощи памяти и воли. Очевидно, таков брак, прекращаемый разводом. Но. Одна моя знакомая, пережившая развод и повторный брак, говорила мне, что в каком-то смысле хранит верность своему первому мужу. «Я хочу сказать, – объясняла она, – тому, что мы вместе пережили, нашей истории, нашей любви… Я бы не хотела вычеркивать все это из жизни». Вот без подобной верности не продержалась бы ни одна пара – без общей истории, без той смеси доверия и благодарности, из-за которой счастливые пары к старости становятся такими трогательными, гораздо более трогательными, чем молодые влюбленные, для которых в большинстве случаев любовь пока еще – мечта. Мне кажется, что подобная верность бесценна и для супружеской пары имеет первостепенное значение. Пусть любовь угаснет или утратит пылкость, что чаще всего и происходит, и жалеть о ней бессмысленно, но, расставаясь или продолжая жить вместе, пара остается парой лишь до тех пор, пока хранит верность любви, полученной и подаренной, разделенной любви, как и памяти – сознательной и благодарной – об этой любви. Верность – это верная любовь, говорил я выше, и то же самое можно сказать о супружеской паре, даже «современной», даже «свободной». Верность – это любовь к тому, что было пережито вдвоем, любовь к любви, иногда – к сегодняшней (и охотно поддерживаемой), иногда – ко вчерашней. Верность – это верная любовь, прежде всего верная любви.
Как я могу поклясться, что буду любить тебя всегда и никогда не полюблю никого другого? Кто может поручиться за свои чувства? И зачем, если любви больше нет, поддерживать ее фикцию, нести на себе ее тяготы, выполнять ее требования? Однако и это – не повод, чтобы отвергать то, что было в прошлом. Разве для того, чтобы любить в настоящем, нам обязательно предавать прошлое? Клянусь тебе – нет, не в том, что буду любить тебя всегда, а в том, что навсегда останусь верен любви, которую мы сейчас переживаем.
Неверная любовь это отнюдь не свободная любовь: это забывчивая любовь, любовь-предательница, любовь, забывшая или возненавидевшая предмет своей любви, а потому погрузившаяся в пучину самозабвения и ненависти к себе самой. Но, полноте, разве это любовь?
Люби меня, пока желаешь, любовь моя, но не забывай о нас .
Вежливость – основа добродетелей; верность – их принцип; благоразумие – их непременное условие. Является ли благоразумие добродетелью само по себе? Традиция утверждает, что да, является. Но это утверждение нуждается в объяснении.
Благоразумие – одна из четырех основных античных и средневековых добродетелей [4]и, не исключено, наиболее прочно забытая. Для современности благоразумие больше относится к психологии, чем к морали, выражая не столько долг, сколько расчет. Уже Кант не считал благоразумие добродетелью: это не более чем просвещенное или ловкое самолюбие, поясняет он, разумеется, ни в коей мере не предосудительное, но не имеющее никакой нравственной ценности и задающее весьма сомнительные правила. Благоразумно заботиться о своем здоровье, но в чем тут заслуга? Благоразумие слишком выгодно, чтобы быть нравственным; долг слишком абсолютен, чтобы быть благоразумным. Впрочем, не факт, что в данном случае Кант выражает наиболее современную точку зрения, тем более – самую справедливую. Ибо именно он делает из сказанного следующий вывод: правдивость является абсолютным долгом, независимо от обстоятельств (даже если к вам в дом врываются убийцы, преследующие вашего друга, и требуют от вас сказать, не у вас ли он прячется, – это пример, приводимый самим Кантом) и независимо от последствий: лучше поступить неблагоразумно, нежели нарушить долг, даже если от этого зависит спасение жизни невинного человека или вашей собственной жизни.
Мне представляется, что сегодня мы уже не можем согласиться с этим выводом; мы не настолько верим в абсолют, чтобы жертвовать ради него своей жизнью и жизнью наших близких. Этика убеждения, как позже выскажется Макс Вебер (7), скорее пугает нас: чего стоит абсолют принципиальности, если ему в угоду приходится приносить простую человечность, здравый смысл, мягкость и сострадание? Кроме того, мы научились с недоверием относиться к морали, особенно если она претендует на статус абсолютной. Этике убеждения мы предпочитаем то, что Макс Вебер называет этикой ответственности, каковая, не отрекаясь от принципов (что для нее было бы невозможно), все же обращает внимание и на предвидимые последствия тех или иных действий. Добрые намерения могут приводить к катастрофам, а чистота помыслов, даже не подлежащая сомнению, еще ни разу не послужила гарантией против ухудшения ситуации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу