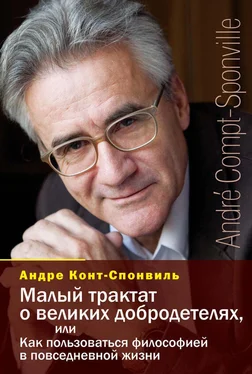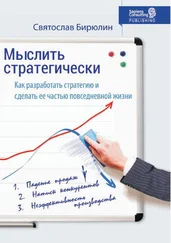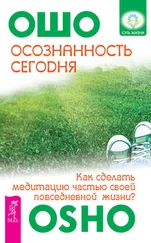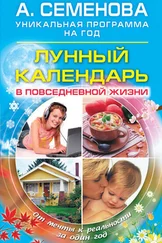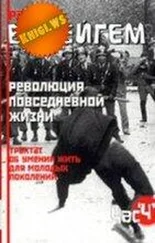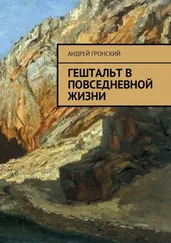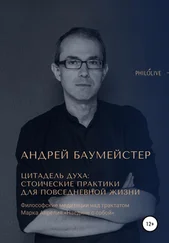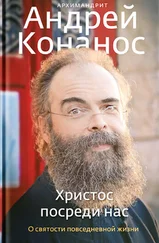Когда я утверждаю, что науке нет дела до верности, я хочу быть правильно понятым: речь не идет об отдельных ученых или о современной науке в своем становлении. Естественная наука, если судить по достигнутым ею результатам, живет настоящим и постоянно забывает о своих первых шагах. Философия, напротив, только и делает, что вновь и вновь возвращается к началу пути. Кто из современных физиков перечитывает Ньютона? И разве найдется философ, который не перечитывает Аристотеля? Наука движется вперед и успешно забывает; философия размышляет и помнит. Впрочем, что есть философия как не верность мысли в своем крайнем проявлении?
Теперь поговорим о морали. То, что объединяет ее с верностью, является ее неотъемлемой составной частью. Кант, впрочем, с этим не согласился бы. Верность – это долг, сказал бы он (например, долг верности между друзьями или супругами), но долг не сводится к верности. Перед нами по-прежнему стоит нравственный закон, имеющий вневременной характер, и речь идет не о том, чтобы быть ему верным, но о том, чтобы ему подчиняться. В чем же тут верность? Если в том, чтобы делать то, что предписывает закон, то верность излишня (долг обязателен к исполнению, с верностью или без верности); если в чем-то другом, то верность факультативна (только долг абсолютен). Что касается верности, диктуемой долгом (верность данному слову, супружеская верность и т. д.), то для Канта она – лишь частный случай долга, сводимый к нему. Верность подчиняется нравственному закону, а не нравственный закон – верности.
Согласен, это так, но лишь в том случае, если существует нравственный закон в понимании Канта – универсальный, абсолютный, вневременной, безусловный. Иначе говоря, если существует практический разум, диктующий свою абсолютную волю в любой точке времени и пространства. Но что нам известно о подобном разуме? Какой практический опыт общения с ним мы имеем? И кто способен верить в него сегодня? Кант был бы прав, если бы существовал универсальный и абсолютный нравственный закон как объективная основа морали. Но я такого не знаю. Это доля, навязанная нам нашей эпохой: быть нравственными людьми, не веря в (абсолютную) истину морали. Но тогда во имя чего нам быть добродетельными? Во имя верности! Ради верности верности! Это, если угодно, еврейский дух против немецкого разума, и он один способен спасти нас от варварства.
Какая наивность, возражает Канту Бергсон («Два источника морали и религии»): пытаться построить мораль на культе разума, иначе говоря, на уважении на практике принципа непротиворечия! Великий логик Кавальес («Нравственное и светское воспитание») сказал бы то же самое. Мораль должна быть разумной, с этим никто не спорит, потому что она должна быть универсальной (или хотя бы пригодной к универсальному употреблению). Но для этого не хватит никакого разума: «Сталкиваясь с более или менее сильной тенденцией, принцип непротиворечивости беспомощен, а самые яркие примеры тускнеют. Геометрия еще никого не спасла». И правда, не существует добродетели геометрического порядка. Разве варварство менее логично, чем цивилизованность? Скупость менее последовательна, чем щедрость? Но даже если б это было так, разве это аргумент против варварства или скупости?
Разумеется, никто не призывает отказаться от разума: наш дух этого не пережил бы. Речь идет лишь о том, чтобы не смешивать разум с его верностью правде с моралью, которая верна закону и любви. Разумеется, и тот и другая могут выступать единым фронтом, и именно это я именую духом. Но это не отменяет того факта, что разум и мораль – два разных понятия, несводимые один к другому. Иными словами, мораль относится не к истине, но к ценности: она есть объект не познания (во всяком случае, все, что мы можем узнать о морали, никак не показывает ее ценность), но воли. Она носит не вневременной, но исторический характер. Она не перед нами, но за нами.
Таким образом, если у морали нет и не может быть основания, его роль играет верность. Благодаря верности мы подчиняемся не вневременному характеру универсального нравственного закона, но историчности ценности, присутствию в себе – всегда частному – прошлого, идет ли речь о прошлом человечества вообще (культура, цивилизация, то есть все то, что отделяет нас от варварства) или о нашем частном прошлом или прошлом наших близких («сверх-Я» Фрейда, воспитание, то есть все то, что отделяет нашу мораль от морали других людей). Верность закону, но не божественному, а человеческому, не универсальному, но частному (даже если он применяется и должен применяться универсально), не вневременному, но историческому: верность истории, верность цивилизации и духу Просвещения, верность человеческому в человеке! Мы не должны предавать то, что человечество сделало с собой, то, что оно сделало с каждым из нас.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу