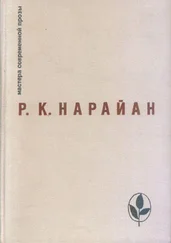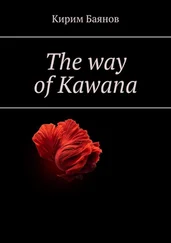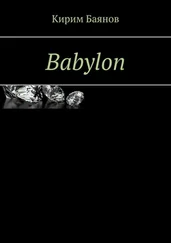Меня раздражают большие, говорливые супермаркеты, – наводненные толпами и пусть даже немногочисленными посетителями. Они будто бы не дают отдохнуть друг другу от суеты и безумных рабочих дней, выплескивая раздражение и безучастность на персонал, к самим себе. Теснятся и заглядывают на рекламные вывески, в корзинки прохожим, смеются громко и гомерически; тяжело передвигают ноги, белым пятном рисуя свое обретение на листах современной истории, казалось, канувшей в бездну после разбитых надежд, уповающих на перемены восьмидесятников, уставших от всего и вся поколений будущих, чрезвычайно привыкшим к раздорам политики, сиюминутным коллизиям и мелким обидам суровых буден, – таких обыкновенных и знакомых каждому из нас, ибо сами они и есть мы, – суровые поглотители рекламы и невнятно сражающиеся на поле многочисленных игроков, сами пишущие, сами создающие эту рекламу, самопотребляющие продукты нашего нетерпения и противности к ним; ругающиеся и ругаемые, тяжелые на подъем и замотанные словно вращаемая юла; вспоминаемые и вспоминающие, не ценящие и бесценные, разбуженные и спящие. Игнорируемые и игнорирующие. Занесенные в книгу жизни и обретающие покой только по строгому распорядку, скитающиеся и скитаемые, засыпающие и пробуждающиеся. Слепые и зрячие.
Я прохожу по безмятежно-спящим закоулкам вылизанных, вычищенных до безобразия, лоснящихся пустотой улочек и вспоминаю город, каким его видел по дню, в обед и отчетливо понимаю, что не поеду в Тиба-сити, – ни за что, никогда. Пусть она останется в моих венах такой, какою ее нарисовал джентльмен из моего прошлого, – словно коньяк, разбавленный абсентом флуоресцентных ламп; вдыхающий битум цементных небес мегаполис, – полный свинцовых коробок и безраздельно властвующих зеркальных витрин. Таким, каким я запомню его тяжелое движение шумных улиц и железобетонных царств, – блюз вакуумных аллюзий вазопрессиновых снов мэтра двадцатого века, и не хочу читать больше того, что уже есть у меня благодаря его трудам; страшась нарушить хрупкую красоту абсорбированных мною строк, пускай недолговечных и капризных мод, но всепорождающей начало тех мелодией минорных нот предвещающих на каждом шагу апокалипсическую тоску, – во множестве кинолент, рассказанных на свой лад множеством простуженных interprete, настойчиво прокладывающих путь к духовному вырождению и уверяющих в бессмысленности схоластического существования. Пусть даже немного подпорченных алкоголем и нейролептиками, которым улица нашла свое применение; пусть даже инородного вживления в расшатанный мир внутренних ценностей, сращения их с натурой и растопыренными пальцами перед зеркалом: «Неужели это я? Неужели со мной все это? Неужто во мне?»
И так, порою черствый хлеб намного вкуснее свежего, а подгнивший виноград отдает цветами самого дорогого вина.
И я пьянею от давних воспоминаний, будто заговоренный чужими мыслями, чужими делами и посторонними шагами в чужих историях; искусной игрой своих звезд, подмигивающими мне, поднимающимися и всплывающими над бездонным колодцем моего детства.
Может быть, я не читал Поля Брега. Может быть, я не читал Марка Аврелия и мне наплевать на Плутарха. Но я знаю… что настоящая красота ценится так скудно и с запозданием во множество лет, что заставляет плакать даже самых циничных из зевак на телешоу и радиомостах.
И мне так жаль, так жаль вас, мои дорогие, мои драгоценные звезды…
И так приятно, что некоторым из вас были уделены ценные минуты из моей жизни, из жизней, таких, как я…
Но потом, развалившись на диване, в уютной комнате, я передумаю и расставлю по своим местам все мною сказанное. И мне покажется, будто меня спрашивают: «Неужели… неужели все это было игрой вашей фантазии? Неужели все это было задумано и спланировано?»
А я буду отвечать: « Да это правда. Понимаете, ведь главный герой это всего лишь воображение, созданное моей фантазией, и он ограниченный человек. Он путает имена малоизвестных людей с именами прославленных и ставит их в один ряд со звездами мировой величины. Он трогательно забавен своими ошибками, вспоминая философов и историков, нечаянно помещая среди них диетолога…».
– Лучше бы он оставался неграмотным, – добавлю, смущенно, пожимая плечами и разулыбаюсь с недосказанностью в словах.
А потом буду лежать и думать, что вот пришел момент, сделать вид, что мои глаза сухие. Но они и вправду остаются сухими. И так от этого себя чувствуешь странно. Будто украл у себя самого частичку своей же любви.
Читать дальше
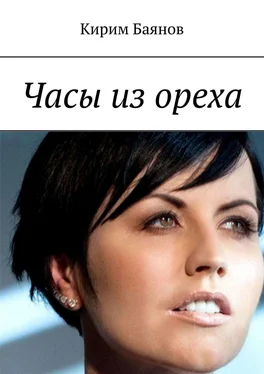
![Кир Булычев - Час полночный [Рождественская сказка]](/books/31374/kir-bulychev-chas-polnochnyj-rozhdestvenskaya-skazka-thumb.webp)