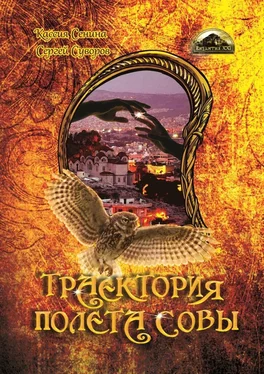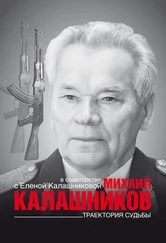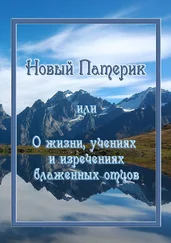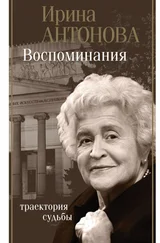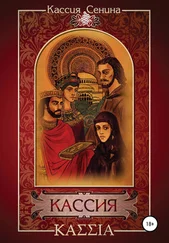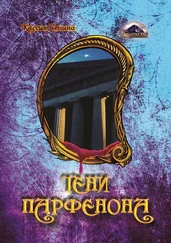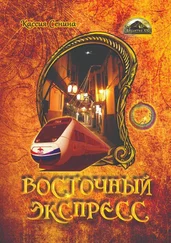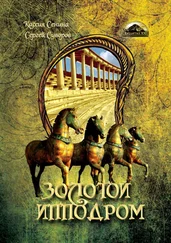«Да христианство ведь и не выдвигает специальных требований к одежде, – думала Афинаида. – Апостол Петр, когда рыбу ловил перед явлением Христа, вообще был голым, в Евангелии об этом прямо сказано! Но не обвинил же его Христос в нецеломудренном поведении! Это раньше у нас все ходили в длинных туниках, даже и мужчины, но сейчас-то никто так не ходит, другой стиль одежды, другая культура, и все привыкли…»
Телевизора у Афинаиды не было – они с матерью вынесли его на помойку во второй год пребывания в лежневском приходе, – но она теперь иногда просматривала новости в интернете, в том числе видеозаписи, приглядываясь к тому, как живут и чем дышат нормальные люди, в чье общество она намеривалась вернуться. Она видела, что люди, в том числе те, о чьей религиозности было хорошо известно – например, император и его супруга, – вряд ли задавались многими из вопросов, вызывавших у Афинаиды сомнения. Если уж такая красивая женщина, как августа, нисколько не смущается мыслью, что может кого-то соблазнить обнаженными плечами и великолепными нарядами, то чего ради смущаться Афинаиде, далеко не красавице, тем более что она и не собирается одеваться именно так? Она всего лишь не хочет выделяться среди своего окружения.
Такими и похожими рассуждениями она убеждала саму себя, но ей всё же было боязно. «Православные» одеяния оставались почти единственной нитью, которая связывала ее с «истинно-христианским» прошлым: она давно бросила непрестанно повторять в уме Иисусову молитву и не ходила ежедневно на службы, как прежде; исповедовалась не два-три раза в неделю, а примерно раз в полтора-два месяца и без всяких подробностей, которые так любил выслушивать Лежнев, чтобы давать бесконечные духовные наставления; причащалась не чаще одного раза в две-три недели и не старалась после причастия весь день проводить в чтении духовной литературы, а занималась обычными делами; утреннее и вечернее правило сократила до молитв из краткого молитвослова, редко брала в руки Псалтирь, а акафисты и вовсе забросила; посты соблюдала не по уставу, всегда с рыбой; Евангелие читала не по главе в день, а по одному зачалу; книги святых отцов вообще брала в руки только тогда, когда оставалось свободное время от чтения научной литературы и, о ужас, интернет-новостей и прочих вдруг ставших нужными вещей, или когда это было необходимо для научных исследований, – и она так быстро привыкла к такому образу жизни, что всё это ее уже не смущало. Но, однако, у того же Макария Великого, которого цитировал Киннам в их первую встречу, говоря о том, что нет универсальных рецептов христианской жизни, постоянно повторялась мысль о необходимости отдать все силы на служение Богу, отвергнуть всё, что мешает соединиться с Ним, стараться стяжать благодать, не гоняться за «внешними» знаниями, смиряться и терпеть притеснения и скорби ради Христа… Где это всё у нее теперь? Если она на что и старается отдать все силы, то это служение науке… А самую большую скорбь ей доставляет мысль о том, что ректор никогда не посмотрит на нее как на женщину!
«Если я стану одеваться совсем по-светски, что останется от моего христианства? Несколько утренних и вечерних молитв да иногда исповедь с причастием?» – думала Афинаида, по возвращении из Академии переодеваясь в заношенный темно-зеленый халат. Впрочем, и мысль, будто длинная юбка приближает ее ко Христу, казалась очень глупой. Киннам прав: имеет значение только взаимоотношение человека и Бога, ощущение Его промысла над собой, Его направляющей руки в жизни… И если ее прорыв к науке не был промыслительным, то… где тогда вообще этот промысел? Чего мог хотеть от нее Бог после того, как Лежнева арестовали? Уж конечно, не того, чтоб она бросилась под машину! И не чудо ли – та встреча с романом Киннама в книжном магазине?! Не промысел ли – что именно у него она пишет диссертацию? Афинаида не могла воспринимать это как простое совпадение. Значит, Бог хотел, чтоб она пришла в науку. Но Бог всеведущ, так разве Он не знал, что она усвоит правила новой среды? Ведь она пришла к такому образу жизни не потому, что бунтовала против религии, она же не потеряла веры, всё это вышло само собой, естественно… И какая этому альтернатива? Найти опять какой-нибудь приход, где можно работать при храме и заниматься «спасением души»? О, нет, с нее хватит! Назад дороги нет. Даже если она опять пошла по неправильному пути, всё равно это лучше, чем то, что было. И к прошлому она не вернется. Никогда.
Читать дальше