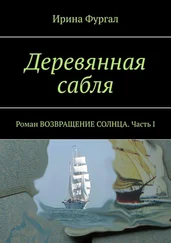Действительно, могло быть и хуже.
Даже ужасней.
Например, родители хотели меня проучить и отвезти моего Рики из Лечебницы к себе домой, но он поднял бунт и потребовал ехать к Миче. Мой ребёнок хотел показать, что не сердится на меня, а очень даже понимает и любит. Он заполз в мою постель, пригрелся и дремал себе. Очень моего ребёнка удручала мысль, что продолжение работы над серёжками для директора школы откладывается на неопределённое время из-за сломанной руки. Я обещал помочь, но Рики хотелось самому выполнить всё с начала и до конца. Тем временем мама и папа вытянули из моих друзей, отчего я такой совсем никакой, отчего где-то шлялся всю ночь и почему поссорился с Натой.
Ну всё, решил я, сейчас начнётся по новой. Но нет, родители, как и Натин папа, пожали плечами и сказали, что это моё личное дело. Никакого участия. Я вечно за них переживаю, а им всё равно.
– Это потому, – горько сказала мама, – что ты пишешь стихи и их же под свою же музыку распеваешь. Ты слишком чувствительный, прямо как девочка. Так нельзя. От этого твои несчастья. Дурь в голове.
Сговорились они, что ли, с дядей Тумой Мале? На днях я исполнял долг вежливости: по приказу отца навещал заболевшего начальника таможни. Пора запретить навещать болящих! Кашляя и чихая мне прямо в рот и в чай, который я для него приготовил, дядя Тума мне же ещё и выговаривал. Дескать, такой обалдуй я потому, что пишу стихи и клепаю золотые девчачьи цацки, и все мои несчастья от того же. Когда я спросил, где это у меня несчастья, и почему я их не замечаю, дядя Тума шумно высморкался раз пять и посоветовал мне не распускать сопли.
Можно углядеть высшую справедливость в том, что я не заразился и не улёгся в постель, и сопли не распустил.
– Клепаю золотые цацки, – подхватил я мамину мысль. – Да ещё и серебряные в придачу. Мужское ли это дело, мама? Или оно мужское только тогда, когда клепает папа, кормилец семьи?
От неё никак не ожидал обвинения в том, что писать стихи – это плохо. Помнится, она радовалась и гордилась, когда я притаскивал ей в коллекцию новый листок с рукописными четверостишиями, складывала в отдельный ящик. Может, мои стихи в последнее время недостаточно хороши? Но их с удовольствием печатает университетский журнал.
– При чём здесь твоя профессия, Миче? Ничего такого я не говорила. Но стихи и впрямь сочиняют странные люди. Однако, доктор Шу советует им потакать.
Вот как выбил маму из колеи несчастный случай с Рики. Вот до чего она на меня сердита.
Ловкач побыл у меня недолго. Пришёл, потолкался во дворе с сочувствующими соседями, послушал сплетни и испарился. Спешил куда-то. Он принёс хорошую новость: старый убийца Корк арестован за избиение старшего сына. Я очень сильно обрадовался: вот сошлют негодяя на каторгу – и никаких больше проблем. Может, моей семье не придётся покидать Някку.
Ловкач не выглядел довольным, когда сообщал мне такое прекрасное известие. Это отчего-то показалось мне подозрительным до последней крайности. Нет, я не сказал себе: «У Воки проблемы, оттого он так раздражён, сердит, даже груб. Отводит бегающие глазки, нервно поправляет очёчки и дёргает себя за белобрысые пряди. Помочь надо Воки». Я бы так сказал, если бы речь шла о Мальке, Чудиле или Шу-Шу. Но тут я подумал: «Дело нечисто. Всякий радуется, если негодяй получает по заслугам. Ловкач, похоже, не рад. С чего бы это?» Подумал, хотел попозже погадать, но меня отвлекли.
Вечером, когда все угомонились и разошлись спать, я выполз в свежий и влажный сад постоять и подумать в тишине. Голова у меня разболелась, и весь я был какой-то потрясённый и сам не свой. И, если я глядел на дом, то видел, что он горит, я видел пожар, и мне приходилось уговаривать себя, что это наваждение, мой вечный страх. Я отвернулся и стал смотреть на звёзды.
Отчего этот страх так усилился?
ГЛАВА 3. ТРОГАТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА
– Эй, анчу, – донеслось из-за забора, граничащего с переулком.
Опять Корки! Я уже не могу. Я хотел уйти в дом.
– Эй, иди сюда, поболтать надо.
Я подошёл. Я сжал кулаки. Я сейчас с ними поболтаю.
Встав у калитки, хотел сказать этим разнокалиберным Корковым прихлебателям что-нибудь нехорошее, но они меня опередили. Их было человек шесть. Что странно, не брехливая молодёжь, а их отцы, бородатые, угрюмые типы. Дело плохо, решил я. И предпочёл за калитку не выходить.
– Анчу, ты знаешь, что сделал, – сказал Крук, какой-то там семиюродный дядюшка.
– Что я опять вам сделал?
Читать дальше