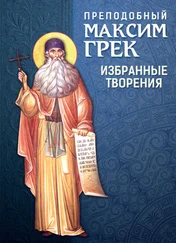– А про Крапивина что ему отвечать? Или послать подальше – «присылайте повестку»?
– Не обостряй. Говори то же, что и до закрытия дела. Скажи, мол, очутился у него на даче волею случая. Рук и у него не было еще с вечера. Дверь в свою комнату он выломал сам. Баню поджег не ты. В подполе ты оказался из-за глупой шутки покойного. Собаку повесил он.
– Понял, спасибо. Я чист как слеза праведницы.
– Ага. Той, из анекдота.
Игнатов снова зашелся в радостном исступлении.
– Мне сообщат, когда он уйдет. Поскучай пару часов.
Игнатов стоял на обочине дороги и пролистывал список контактов в телефоне.
– Эрнест Карлович, здравствуйте. Я рад, что Вы, наконец, мне ответили.
На другом конце послышался тихий грудной голос.
– Юрочка, дорогой, как Ваше здоровье?
– Вашим заступничеством перед Всеблагим, – мягко и без иронии произнес Игнатов, – иначе не могу объяснить недавнее исцеление.
– Я думал о Вас ежедневно, наводил справки через Всеволода. Получили мои гостинцы?
– Конечно, Эрнест Карлович, трапеции отменные. Стопроцентное попадание. Хотел бы сейчас заехать к Вам – правда, у меня всего пара часов.
– «Всего пара часов». Надо же как… – собеседник медленно выдохнул, – «Всего пара часов». Всего, да не всего. Время… Знаете, на днях у меня случился приступ радикулита. Вы уж не серчайте на эту мою откровенность – знаю, что не любит молодежь разговоры про болезни стариковские, но… Я не жалуюсь, нет. Я в строку Ваших, Юрочка, слов.
Он тяжело выдохнул, собираясь с силами.
– Так вот, радикулит. Неудачно повернулся и застыл. Ни с места. Посреди Синей Комнаты. Боль была адская – ни выдохнуть, ни вдохнуть. Как вкопанный стоял. И, знаете, Юрочка, страх, страх… Не головной и даже не сердечный – прям-таки сквозной, нутряной, осевой. Умом понимал, что нужно перетерпеть, переждать, перестоять. Через час-другой должны были прийти мои курды. Немного побуду памятником, думаю. Но душа мечется, вот в чем дело. Некуда ей деться, ни миллиметра свободы. Понимаете, Юрочка, если у памятников есть души, то эти души несчастнее тех, что томятся в геенне огненной. Потому что там, в пекельном царствии, им дозволено возопить, забиться в агонии безумной, а тут… Тут даже вдох давался с болью. Знаете, будто в воздухе растворили эссенцию страдания. Казалось, будто мой паралич своим источником имеет пространство, поглощаемое легкими. Так и памятники – им не закричать, не заплакать. Только представьте себе такую нулевую точку свободы. Попробовал спустя минут пять пальцем пошевелить – так этот еле заметный сигнал от мозга к конечности тут же был перехвачен той невидимой анакондой, что намертво вцепилась мне в спину и обвила остов. Я через силу перевел взгляд на стену в поисках какого-нибудь духовного утеса, о который смогу опереться на время паралича. И, знаете ли, нашел. Старые настенные часы. Тикают негромко, слышны только в полной тишине, когда слух заострен, как наконечник ахиллесова копья. Я, что называется, уцепился за них. Вгляделся, впился. Мне невыносимо было быть собой, ох невыносимо, невозможно, неподъемно, нестерпимо. Я должен был переместиться вовне. Я слился с секундной стрелкой, я познал ее, понимаете? Каждое ее положение сделалось для меня особенным. Первые десять секунд минуты она проходит деловито и молодцевато, вторые – бодро и осмысленно, третьи – медлительно-озадаченно, четвертые – скованно и осторожно, пятые – на пределе сил, на экстремуме воли, последние – на втором дыхании, но непреклонно. Путь от нуля до нуля более трагичен, чем гибель всего живого. Хотя бы потому, что когда гибнет мир, то он гибнет, а стрелка должна идти дальше, без пауз, без оглядки. Можно ли представить жизнь, в которой нет места взгляду назад? Я не мог оглянуться назад, я был превращен в окаменелость беспощадным ходом биологических жерновов. И она не могла. Мы были заодно, мы были одним. Это не литературная красивость, не барочная завитушка на фасаде речи – это чувство: физиологическое, клеточное, мышечное. Через двадцать-тридцать оборотов ее-меня я почувствовал, что насыщаюсь временем, поглощаю его, просеиваю его. В какой-то момент я понял, что совершенно счастлив. А когда шестипудовая фея в синем костюме сделала мне инъекцию вольтарена, и я смог вытянуться на кушетке, то испытал ангедонию, страшную тоску по утраченному экзистенциальному ориентиру, ностальгию по боли и страху, въевшихся в вечный круговорот времени.
Игнатов помолчал.
– Так можно к Вам заехать?
Читать дальше





![Максим Максимов - Максимов³ [сборник litres]](/books/390605/maksim-maksimov-maksimov³-sbornik-litres-thumb.webp)