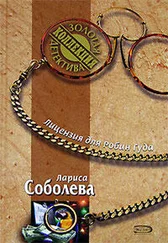– Я уж сказал, больше повторять не буду – останешься здесь, при мне. Работу дам, никто не тронет… но ежели сама почнешь хвостом крутить, как сучка – к стенке поставлю, так и знай!
Махно дошел до двери, на пороге остановился, метнул взглядом через плечо, точно хлыстом ударил:
– Лёвка принесет барахла, выберешь себе, что по нраву. Это все народное. И Дуньку к тебе пришлю, чтобы обсказала про наши порядки, объяснила что да как… Помни: не при панах живем, здесь слуг ни у кого нет, все работают!
Кивнул головой – вроде попрощался – и выскользнул из горницы, растаял в сумерках, словно его и не было вовсе.
Саша сидела на кровати, в расстегнутом платье, оплетенная, как змеями, разметавшимися косами, и ей казалось, что в томной, сладкой тишине наступающей осенней ночи с хрустом, с надрывом рвется на части ее сердце.
Из кучи добра, принесенного ей Лёвкой (Лёвкой, впрочем, называл его только Махно, остальные уважительно – Львом Николаичем), Саша выбрала себе пару ситцевых платьев, похожих на те, что носили молодые бабы, ехавшие с ней в поезде, черные ботинки на каблучках – ношенные, и от того мягкие, да турецкую шаль, такую длинную и широкую, что в нее можно было закутаться с головы до пят, как в абаю. Ни серег, ни монист, ни иных украшений, ни шелкового белья Саша не взяла, хотя Лёвка настойчиво предлагал примерить…
Одежда вся была с чужим запахом, и Саша не могла не думать, не спрашивать себя – кто ж носил ее раньше? Где теперь эти люди, живы ли? Из чьих ушей вынуты сережки, с чьей шеи сорвано монисто, у кого отнята роскошная кашемировая шаль?..
Новая жизнь начиналась как игра в карты без козырей, игра на интерес, и Саше ничего не оставалось, как подчиниться правилам. Ей было всего двадцать пять лет, она хотела жить. Не было никакого геройства в глупом сопротивлении неизбежному, не было смысла в пресловутой женской гордости, а козырять происхождением да голубой дворянской кровью, требовать себе привилегий, задирать нос да дерзить, оказавшись посреди лихих людей, не верящих ни в бога, ни в черта, могут лишь героини приключенческих книг.
Саша и сама любила читать про пиратов и благородных разбойников, что относились к пленницам, как к принцессам, и непременно влюблялись в них, посвящали им жизнь, дрались за них, совершали в их честь отчаянные подвиги… а об ответной любви молили почтительно и смиренно, как гимназисты.
Таков ли был невысокий человек в «гимназической» форме, опоясанный кожаной портупеей, с привешенными к ней наганом и острой казацкой шашкой? Станет ли он «молить о любви»? Да он, верно, и слова такого не знает…
У Саши замирало сердце, когда она вспоминала его тяжелый взгляд исподлобья, жесткий неулыбчивый рот с плотно сжатыми губами. И руки… она мучительно краснела, думая о них, но не могла прогнать воспоминание о том, что эти руки творили с ней, забравшись под платье. В животе разливался стыдный жар, нега, похожая на ту, что она испытывала с мужем в самые счастливые ночи – в Италии, где они провели медовый месяц, или позапрошлым летом, на даче в Крыму… когда весь этот революционный морок и кромешный ужас братоубийственной войны казался лишь страшной сказкой.
Прошло чуть больше двух лет с того золотого августа, персикового, медового, полного поцелуев и прогулок по тенистым аллеям дворцового парка, и вот она, Александра Владимирская, вдова и сирота, вольная и одинокая, как цыганка, перекати-поле – стоит в горнице крестьянского дома на Украине, примеряет чужое платье и гадает, сделает ли ее своей девкой атаман-анархист, или побрезгует «белой костью»…
Париж, куда она так стремилась, отсюда, из Гуляйполя, казался несуществующим, как сказочное Тридевятое царство. Суждено ли ей снова увидеть широкие бульвары, обсаженные липами, каштанами и дубами, громаду собора с каменным кружевом башен, мосты над серебристо-сиреневой Сеной, каменных богов, русалок и тритонов, восседающих на водяном троне посреди площади?.. Суждено ли ей увидеть хотя бы Екатеринослав и широкий тракт, ведущий к польской границе?.. Она не знала – и не хотела думать, чтобы не сойти с ума.
– А что, Лев Николаевич, – вдруг спросила она, повернувшись к Лёвке, все глядевшему на нее со сладкой улыбкой, – Нельзя ли мне глоточек… водки?..
Тот, похоже, ожидал от московской барышни чего угодно, но не такой просьбы, и вытаращил глаза:
– Чаво? Горилки, что ли?
– Да, горилки… кажется, это здесь так называется. – Саша пожала плечами, старалась казаться равнодушной, словно крепкие напитки были ей так же привычны, как кофе и чай. Видно, получилось не очень убедительно, потому что Лёвка хохотнул:
Читать дальше
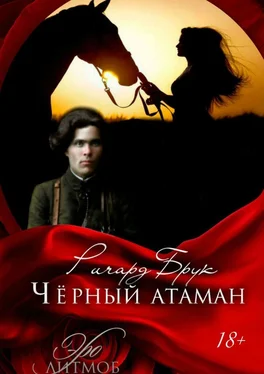
![Лариса Соболева - Последнее дело молодого киллера [= Лицензия для Робин Гуда]](/books/30801/larisa-soboleva-poslednee-delo-molodogo-killera-thumb.webp)